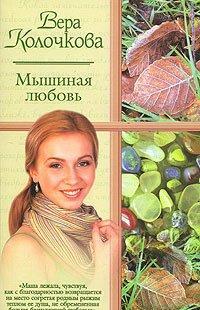
Жанр книги: Современные любовные романы
...и мать их Софья :: Колочкова Вера
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться1Вторник, 5 февраля 00:02
Поделиться2Вторник, 5 февраля 00:03
Аннотация: Софья. Женщина, от которой ушел муж. Ушел не просто к другой – к молоденькой девушке, подруге старшей дочери. Она переживает крах своей жизни. Но – было ли оно, это счастье? Может быть, Софье пришло время круто изменить свою жизнь и понять то, что прежде было ей недоступно…
---------------------------------------------
Вера КОЛОЧКОВА
...И МАТЬ ИХ СОФЬЯ
СОНЯ
Соня с трудом выбралась из привычного, уже навязчивого сна, который повторялся довольно часто, был странным, тревожным и необъяснимо тягостным. Во сне она мучительно что-то писала, вернее, пыталась писать. Что это было – роман, повесть или рассказ, – она не могла потом вспомнить. Весь ужас состоял в том, что в ее сне фразы, зреющие в голове, были красивыми, точными, емкими, торопливо цеплялись одна за другую, образуя некую целостность, вызывая ощущение острой необходимости их записать, но на бумагу ложились лишь длинные сложносочиненные бессмысленные предложения, уродливые, нечитаемые, непонятные, похожие на бред, вызывающие раздражение своей убогой сумбурностью. Конец последнего предложения в момент пробуждения надолго застревал в голове, часто возвращался в течение дня, как возвращается привязчивая, набившая оскомину строчка из глупой популярной песенки. Зачем ей так часто снится этот мучительный литературный бред, она не понимала. Графоманией не увлекалась и не пыталась даже...
Странно, что ей вообще как-то удалось заснуть этой ночью. Вернее, этим утром, поскольку ночью ни Соня, ни три ее дочери не спали, а занимались каждая, собственно, своим делом: Соня или плакала, громко, с истерикой и причитаниями, или сидела, замерев, как сова, с широко открытыми пустыми глазами, а ее девочки – Мишка, Сашка и Машка – кружились вокруг нее испуганным хороводом с валерьянкой, мокрым полотенцем, сладким горячим чаем. Причина суматохи была довольно банальной – от нее, от Сони, вчера ушел муж, Игорь, отец семейства, надежда и опора, добытчик и хранитель покоя, каменная стена, столько лет дававшая Соне надежную защиту. Наверное, было уже или очень позднее утро, или полдень; даже через натянутое на голову одеяло Соня слышала щебет птиц, чувствовала теплые лучи солнца, заполнившие комнату, ощущала веселые апрельские позывные, навстречу которым еще несколько дней назад легко соскочила бы с дивана, включила громкую музыку, вместе с первым глотком кофе услышала б в себе знакомую радость беззаботности нового дня. Все кончилось катастрофой, поезд ее жизни сошел с рельсов, перевернулся. Она умерла, ее раздавило, разрезало на части, и при чем тут пробивающееся сквозь щели в одеяле солнце, при чем тут веселое чириканье весенних птиц за окном и ветер, ворвавшийся в открытую форточку, принесший запах теплой земли и прелых прошлогодних листьев?
Она не понимала, сколько времени лежит так, боясь пошевелиться. Как она ни старалась, ей никак не удавалось примерить ситуацию на себя, слишком странно и нелепо по отношению к ней, к Соне, все это выглядело. Киношной какой-то, книжной, надуманной была ситуация. Это там с брошенными мужьями женщинами начинают происходить всяческие чудеса: поплакав чуть-чуть, они красиво и гордо вскидывают голову, обретают себя заново, потом идут делать сумасшедшую карьеру, потом обязательно встречают новую красивую любовь – лучше прежней! Нет, это все не для нее... Она не готова, она абсолютно не готова, она будет так тихонько, затаившись, лежать, может, все само собой как-то и утрясется, разрешится, может, сейчас придет Игорь и все объяснит, и они посмеются все вместе, и забудут эти последние тяжелые для всех дни.
А иначе и быть не может! Игорь же понимает, что она другая, не как все те женщины, которые обретают себя, делают карьеру, встречают новую любовь, и далее, как говорится, по тексту...
И зачем она затеяла этот Мишкин день рождения! И дата у нее не круглая – двадцать три года, и не любит ее старшая дочка лишнего к себе внимания, и имени своего французского стесняется. В самом деле, ну какая она Мишель? Высокая, плотная, неуклюжая, с тяжелой походкой, вся в отцовскую медвежью основательную породу. И профессию себе дочь выбрала скучную – училась на факультете бухгалтерского учета в финансовом институте. Училась, правда, хорошо, тянула на красный диплом. На день рождения пришла вся ее институтская группа – пятнадцать дружных хохотушек, радующихся поводу лишний раз повеселиться, потанцевать, поболтать. Сколько ни напрягала потом Соня память, а так и не смогла вспомнить лица той девочки, Эли, которая фактически увела за собой с того дня рождения Игоря, ее мужа. Вот так легко и просто увела, не приложив особых усилий, не напрягаясь. Еще фамилия у нее такая специфическая... Соня еще подумала о том, как удачно содержание совпало с формой... Вспомнила! Бусина у нее фамилия. Маленькая такая круглая бусина, без всяческих опознавательных знаков и отличий. А Игоря с того самого дня она больше не видела. Ушел провожать Мишкиных гостей и больше не вернулся. Первые три дня она и не беспокоилась – мало ли, может, халтура какая подвернулась. Она вообще никогда не волновалась по поводу его длительного отсутствия. Так заведено было давно, с тех самых пор, как Игорь, потеряв работу, стал заниматься частным извозом. Не пришел домой ночевать – значит, есть работа, значит, будут деньги. Так прошли первые три дня, потом еще три дня, потом еще три... А вчера вечером он позвонил и сказал, что не придет уже никогда. Что он ушел к той самой Эле Бусиной, у которой так удачно совпали форма и содержание и лица которой Соня совершенно, ну решительно не помнит, хоть убей! Сначала она ничего не могла понять, ее оглушил его голос в телефонной трубке – резкий, неприязненный, осязаемый какой-то, будто его можно было потрогать руками. Впервые за двадцать пять лет их совместной жизни он разговаривал с ней таким голосом, который сбил ее с толку. Растерявшись, она и не сообразила сразу, что и как надо сказать, молчала как дура, пока он не положил трубку.
А ведь через неделю и правда их юбилей, все-таки четверть века вместе, трое детей... Может, он вспомнит и ему станет стыдно? Может, он одумается? Соня была даже согласна на Элю – пусть будет, ей не жалко, ради Бога! Но только где-то там, за пределами ее, Сониного, пространства, в качестве подруги, любовницы, в каком угодно качестве. Лишь бы он вернулся, лишь бы все было как прежде! И почему она так растерялась-то? Надо было ему просто и ясно все это объяснить. Вот он придет, она и объяснит. Да, надо только подождать! Он придет, и все встанет на свои места. Надо ждать! Другого выхода у нее нет.
Найдя для себя таким образом точку опоры, Соне удалось встать с дивана, и покурить, и выпить спасительную чашку крепкого кофе, и, наконец, умыться. Собственное отражение в зеркале ванной комнаты ничем не напугало, было тем же, привычно приятным: хорошо сохранившийся для ее возраста овал лица, гладкая белая кожа, пухлые капризные губы, озорные смоляные кудряшки красиво падали на лоб и щеки, создавая впечатление тщательно уложенной «небрежной» прически. Вот только глаза были другими, исчезло из них выражение счастливой беззаботности, приятной лености, что, собственно, и придавало ее лицу, как считала сама Соня, особую прелесть.
Она вообще всегда была довольна своей внешностью, которой занималась тщательно и с удовольствием.
Поделиться3Вторник, 5 февраля 00:04
Ей нравилось необычное сочетание ее мальчишеской тренированной фигурки с природной ленивой грацией зрелой женщины, нравились маленький рост, ухоженное моложавое лицо, нравились черные кудряшки, нравилось удивленно-доверчивое выражение лица балованного ребенка. Собственная внешность всегда была предметом ее гордости, доказательством того, как правильно и мудро она устроила свою жизнь: никогда не занималась тем, что ей неприятно, и делала только то, что приносило удовольствие. Ну не нравится ей каждодневное навязанное общение, когда хочешь не хочешь, а ломаешь себя, подстраиваясь под других, пробиваясь со своим мнением, и нравится сидеть дома, поздно вставать, долго гулять, много читать. Нравится состояние беззаботности, когда никуда не надо торопиться, когда твое драгоценное время принадлежит тебе, и только тебе! А хорошо выглядеть можно всегда, не тратя денег на дорогие салоны и тренажерные залы. Да и денег лишних у нее на эти гламурные развлечения не водилось. Откуда им было взяться? Соня не работала, Игорь приносил в семью немного, хватало только на то, чтобы свести концы с концами. Соня же только тем и занималась, что увлеченно сводила эти самые концы, находя в этом занятии своеобразное удовольствие. Зачем много и напряженно работать, суетливо зарабатывать деньги, чтобы потом много и без толку тратить? Можно ведь и не напрягаться, не вставать в раннюю рань и не мчаться сломя голову на работу, где тебя еще и обхамить норовит каждый, кому не лень, а жить и жить себе спокойно, никуда не торопясь, не толкаясь в общественном транспорте среди таких же злобных, опаздывающих на работу, не терять последние нервные клетки в автомобильных пробках, глотая удушливый газ огромными порциями во вред красоте и здоровью. А спортивный зал и косметический салон можно спокойно устроить и у себя дома, делая под музыку те же самые упражнения и намазывая на лицо те же самые маски и кремы. И вообще, как считала Соня, женская красота – это прежде всего выспавшееся лицо, отсутствие в жизни женщины хама-начальника, а самое главное – наличие у этой самой женщины самодостаточности, которая не гонит из дому изо всех сил где-то самоутверждаться путем зарабатывания всяческих материальных благ, не важно каких, лишь бы больше и лучше, чем у других... А творчески реализоваться можно всегда, где угодно и как угодно, даже на кухне при приготовлении обеда, создавая что-то необыкновенное и изысканно вкусное из самых дешевых продуктов.
А кстати, о продуктах... Соня поднялась с кухонного диванчика, на котором сидела, докуривая уже четвертую за утро сигарету, заглянула в холодильник. Ну конечно, именно сейчас в доме и нет ничего, и денег тоже нет. Все имеющиеся у нее деньги она неделю назад потратила на очень дорогую и красивую кожаную куртку, которую хотела купить давно, которая изумительно шла ей. На одежде Соня никогда не экономила. Одежда – это было святое, это было чуть ли не главным условием ее душевного равновесия, таким же, как легкая девичья худоба и идеальное состояние кожи. Соня была уверена, что ни дня не смогла бы прожить, будучи толстой, прыщавой, бедно и неряшливо одетой, раздраженной и злой.
Она снова опустилась на диванчик и, беря из пачки очередную сигарету, почти насильно отогнала готовые вот-вот пролиться слезы. «Нет, тут что-то не так. Не может он все бросить и уйти. Он же знает, что и денег у меня нет совсем. Хотя откуда? Я ж никогда не ставлю его в известность о своих расходах. Надо же, ушел к Эле Бусиной... Да он увидел-то ее только у Мишки на дне рождения! Или нет? Может, я, как всегда, что-то пропустила? Скорее бы Мишка пришла, она ж с этой Элей в одной группе учится. Наверняка что-то знает! Я одна вечно ничего не вижу, не замечаю! Живу, как ребенок, в своем мире, совсем расслабилась. Надо ж хоть иногда вокруг оглядываться, так все на свете проворонить можно.
Поделиться4Вторник, 5 февраля 00:04
Нет, надо действовать немедленно! Надо вернуть его на свое законное место! Иначе пропаду. Я знаю, что пропаду! Другой жизнью я и жить-то не умею, и он тоже это прекрасно знает. Знает про все мои проблемы, про все мои страхи...»
Соня подтянула к себе худые коленки, обхватила руками, сидела, замерев, уставившись на пустой холодильник, будто гипнотизировала его широко открытыми глазами. Она с таким огромным трудом наладила свою жизнь, и вот на тебе...
Ну да, да, она женщина с проблемами, с «признаками чрезмерно выраженной интроверсии», как в детстве попытался объяснить врач-невропатолог до смерти перепуганной Сониной матери странное поведение ее трехлетней дочери в детском саду. Девочка не плакала, не кричала, не дралась, как все новенькие, а, судорожно сжавшись, сидела в уголке и со страхом наблюдала за орущим и копошащимся детским коллективом, как за неким чуждым и непонятным зверем, который может наброситься и съесть, если подойти к нему слишком близко. Так просидела она месяц, другой, третий... Не плакала, не просилась остаться дома, каждое утро безвольно давала себя раздеть и переступала порог группы, спала и ела по часам, безропотно подчиняясь режиму, как маленький узник, потерявший надежду на свободу. А на исходе четвертого месяца слегла с высокой температурой. Просто лежала, вытянувшись в струнку, и горела как печка. Врачи так и не нашли симптомов ни одного детского заболевания, и только доктор Левин, врач-невропатолог, старый и умный еврей, определил, что девочка «не садиковая», проблемная, и попытался объяснить матери про защитные функции организма, про особое отношение к ребенку... «Она что, ненормальная?» – с ужасом допрашивала врача мать. «Ну почему ненормальная... Просто будут трудности в общении, она будет отличаться от других детей, но к этому можно приспособиться. Она не такая, как все дети, понимаете? Пусть пока побудет дома, отдохнет, не водите ее в детсад. А через полгодика приводите ко мне, подумаем, поможем...»
Ни через полгода, ни через год Соню к доктору Левину больше не повели. И Соня осталась дома. Одна. С трех лет. Это было замечательно! Отец в то время работал лесничим, усадьба была расположена на окраине большого села, в лесу, среди огромных старых берез. Соня помнит, как часами стояла среди деревьев, слушая шум ветра, наблюдая за движениями гибких веток, растворяясь в игре света и тени, счастливо сливаясь в единое целое с небом, с деревьями, с травой, с солнцем. Состояние созерцания успокаивало, наполняло счастьем и музыкой. Она никогда не испытывала скуки безделья, просто впитывала в себя этот мир природы, слушала и слышала, и улетала, и наслаждалась им, как маленькая добровольная отшельница. Потом в ее жизни появились книги. Чтение было для нее даже не развитием, не потоком информации, а продолжением ее мира счастливого одиночества. Соня брала наугад любую книгу из большой отцовской библиотеки, начинала читать. Мало что понимая из прочитанного, больше увлекалась самим процессом, восприятием литературного языка. Постепенно она по-детски научилась делить книги на «вкусные» и «невкусные». «Невкусную» книгу распознавала сразу, как музыкант распознает фальшивую ноту, и откладывала в сторону. Среди «вкусных» оказались произведения Чехова, Толстого, Пушкина, Куприна, Лескова, Пришвина... Она могла читать сутками, засыпала с книгой в обнимку, перечитывала по многу раз уже прочитанное. Так и жила себе тихо, как мышка, не доставляя родителям хлопот. «Вся в отца пошла, тоже неудачницей будешь, – ворчала мама, отбирая у Сони книгу. – Ему позволь, он так же будет читать целыми днями и ничего не делать».
Поделиться5Вторник, 5 февраля 00:04
Соня жалела отца всем своим маленьким сердцем, забившись в уголок дивана, горячо переживала родительские ссоры, а потом тихонько брала в отцовской библиотеке первый попавшийся под руку том из зачитанного синего чеховского восьмитомника, садилась в тот же уголок и погружалась вся, до макушки, в любимое повествование, ничего больше не видя и не слыша. Привязанность к этому синему восьмитомнику осталась у нее на всю жизнь, как привычка, как средство первой необходимости в обретении так необходимого ей душевного равновесия: нужно только протянуть руку, открыть любую книгу и окунуться в спасительную музыку чеховского языка, в его неповторимую спокойную иронию, и душа благодарно возвращается на свое законное место, вытесняя смутную тревогу и страх.
А потом началась пытка школой. «Доченька, это ж не детский сад, куда можно вообще не ходить! – уговаривала рыдающую Соню мать. – Ты не бойся, ты ж у нас умненькая. Помнишь, как доктор говорил? Не такая, как все... Пусть они бегают и кричат на переменках, а ты сиди себе спокойно, не обращай внимания!»
Постепенно день за днем Соня смирилась с каждодневной необходимостью отрываться от дома, от любимых книг и ходить в ненавистную школу. Училась легко, была эдакой тихушницей-отличницей, в общественной жизни не участвовала, металлолом и макулатуру не собирала, после школы бегом неслась домой, в свои спасительные стены, к своим книгам, к большим березам, к тихому уютному одиночеству. Да все можно пережить и отсидеться на этих дурацких пионерских сборах и на занудных комсомольских собраниях – все, только не уроки литературы! Ну зачем Кольку Семенова и Пашку Рогова заставлять тупо пересказывать текст из учебника про лишнего человека Печорина или учить наизусть «Памятник» Пушкина? Они с таким удовольствием обсуждают вчерашнюю дискотеку, кто как оторвался и сколько выпил дешевого портвейна, и пусть обсуждают на здоровье, если им это интересно! Классики-то тут при чем?
Разве Колька и Пашка вдумаются когда-нибудь в смысл просто зазубренных, как таблица умножения, на одном дыхании проговоренных куда-то в пустоту строк: «...Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца...»? Да никогда! Никогда им не нужен будет ни Пушкин, ни Толстой, ни Чехов! Они прекрасно проживут и без них, так и не надо заставлять их рассуждать про Илюшу Обломова, про Наташу Ростову, про Петра Гринева... Это же слушать просто невозможно, китайская пытка какая-то! Зато они нормальные дети, а она, получается, ненормальная, с признаками чрезмерно выраженной интроверсии, с проблемами общения... Не нужно ей такого общения! И пусть обзывают, как хотят! Соня злилась и возмущалась, и держала свой протест внутри, и писала, как все, правильные сочинения, где клеймила за леность любимого Илюшу Обломова и восхищалась подвигом Павки Корчагина, которого терпеть не могла. А что было делать? Нельзя же обнаружить, что ты другая, не такая, как все, иначе опять какое-нибудь клеймо поставят, мама расстроится...
Со временем, взрослея, Соня все же приняла для себя некое компромиссное решение: без Пашек и Колек, без общения с ними ей не прожить. Тем более что к своим семнадцати годам она превратилась в очень хорошенькую черноглазую кудрявую девушку и исключительным вниманием к себе Пашки и Кольки и других мальчишек пользовалась напропалую, позволяя водить себя в кино, принимая ухаживания с достоинством графини Наташи, продолжая хотя бы таким образом жить своей книжной жизнью. Постепенно научилась и достаточно четко определять для себя границы мирного сосуществования со своим врагом, этим опасным, хамским, кричащим, требовательным окружающим миром, приняла внешние правила игры, выкупив тем самым, как ей казалось, свою внутреннюю свободу. В эти правила игры удачно вписались и учеба в институте, и замужество, и большая семья. Все так, как у всех. И даже лучше.
Поделиться6Вторник, 5 февраля 00:05
Конечно же, лучше! Ведь она не такая, как все, она особенная...
С Игорем она познакомилась, учась на втором курсе инженерно-строительного института, куда поступила по настоянию мамы. А куда было поступать? Не в педагогический же, чтобы потом мучить любимыми классиками всяких обормотов! Была обычная студенческая вечеринка по поводу только что сданного экзамена, вся их группа расслабленно и дружно накачивалась розовым портвейном дома у одного из однокашников, потом к их компании присоединился Игорь, знакомый однокашника, случайно зашедший в гости. Соня сразу почувствовала на себе заинтересованный взгляд этого большого неуклюжего молчаливого парня, ему было неуютно среди них, пьяных студентов, он был совсем из другого мира, из той жизни, где не читают книг, где зарабатывают на жизнь тяжелым физическим трудом. Потом, ночью, они все возвращались пешком в свое студенческое общежитие, и Соня понимала, что он идет вместе с ними только из-за нее, и опять ловила на себе этот теплый осторожный взгляд. Потом он встретил ее после лекций и на следующий день снова стоял на том же месте, большой, покорный, молчаливый, влюбленный. Они гуляли, как и полагается влюбленным парам, до рассвета, и Игорь всегда шел на полшага сзади, и слушал, и молчал, и смотрел восторженно. Соне было удивительно хорошо рядом с этим парнем, она чувствовала себя абсолютно защищенной, без умолку говорила, впервые не боясь быть непонятой, взахлеб рассказывала ему о своем восприятии мира, о своем детстве и никак не могла насытиться этим свалившимся на нее счастьем молчаливого обожания, которым была укутана, как теплым одеялом. И поэтому всего через месяц, когда Игорь сделал ей предложение, ни на минуту не задумываясь, согласилась. Соня не любила его, это она знала совершенно точно, да и не мечтала она ни о какой любви, но была по-настоящему счастлива: у нее теперь будет настоящий тыл, где она спрячется, где можно будет спокойно жить так, как ей нравится, ни под кого не подстраиваясь.
Подстраиваться, правда, поначалу все-таки приходилось, потому как молодая семья Веселовых поселилась дома у Игоря, в двухкомнатной квартире, вместе с его мамой и младшим братом. Сонина свекровь была женщиной простой, работала лаборанткой на молочном заводе, воспитывала сыновей одна, в строгости, в честной бедности, в аккуратности. Соню приняла хорошо, называла доченькой, Сонюшкой, искренне пыталась дружить, учила хитростям экономного и безотходного ведения домашнего хозяйства и очень огорчалась, когда невестка, вежливо выслушав очередной урок, быстренько скрывалась в своей комнате. Потом нежелание невестки жить одной семьей стало вызывать раздражение, потом неприязнь, которая так и не успела перейти в злобу: весной свекровь скоропостижно скончалась от инсульта, так и не успев увидеть родившуюся двумя неделями позже внучку. Младший брат Игоря, Сашка, такой же молчун и увалень, в это время уже второй год служил в пограничных войсках где-то под Уссурийском, на похороны матери приехать не смог. После службы домой не вернулся, остался жить в тех краях, женился, удачно занимался каким-то небольшим бизнесом и о себе напоминал лишь редкими переданными с оказией посылками с необыкновенно вкусной рыбой и домашнего засола икрой да еще безотказными денежными займами, возврата которых никогда не требовал.
Соня рожала Мишель на удивление легко. Казалось, ребенок и сам не хотел доставлять лишние хлопоты ни матери, ни врачам. Даже проголодавшись, она плакала тихо, неуверенно, будто извиняясь за причиненные неудобства, будто понимала, сколь трудно дается матери техническое образование, с его сопроматами и мудреными чертежами.
Поделиться7Вторник, 5 февраля 00:06
Соня к своему материнству отнеслась ответственно, строго по часам кормила грудью, как и положено добропорядочной матери, раз в месяц показывала ребенка детским врачам. Но, отдав положенное для обихода младенцу время, поскорее старалась усыпить, с нетерпением трясла кроватку. И трехмесячный ребенок, будто понимая, чего от него хотят, виновато таращился из кружевного чепчика, потом покорно и надолго засыпал. Росла девочка покладистой, послушной и робкой, часами могла играть самостоятельно, внимания к себе не требовала и через пять лет, когда родилась Сашка, добровольно превратилась в отличную няньку, возилась с сестрой с упоением, словно отдавала в двойном размере ей ту так необходимую маленькому ребенку любовь, которую сама недополучила в младенчестве. И это пришлось как нельзя кстати, поскольку Сашка в отличие от сестры с кротким нравом не уродилась, была неспокойной, излишне требовательной, кричала так громко, что голова шла кругом не только у Сони, но и у всех соседей. Соня ходила вся вымороченная, с постоянной головной болью, не высыпалась, устраивала истерики Игорю, который и без того сбивался с ног, чтобы прокормить свое растущее семейство. Сашка будто мстила матери за то, что та родила ее по собственному расчету. А как же? Получив диплом, она, как молодой специалист, по неписаным и писаным законам того времени должна была обязательно приступить к общественно-полезному труду. Она и приступила, только хватило ее ненадолго. Инженер-строитель из нее получился плохой, Соня постоянно где-то ошибалась, работу свою со временем возненавидела, в коллектив вписаться не смогла. Поэтому во второй свой декретный отпуск ушла с огромным облегчением, как ей казалось, разом решив все свои проблемы: сидеть дома, читать книжки, ждать мужнину зарплату и гулять с коляской по улице было гораздо спокойнее, чем переживать по поводу своей неудавшейся карьеры. Она и предположить не могла, что, выбравшись из пеленок, Сашка превратит ее жизнь в кошмар. В нее летели тарелки с кашей, в доме всегда было все перевернуто вверх дном, в людных местах устраивались концерты с визгом, с истериками, с паданием на землю. Сашка требовала положенной ей любви, требовала Соню всю, без остатка, и маленькая Мишель проявляла чудеса изобретательности, чтобы отвлечь ее от матери, бросалась на амбразуру, жертвуя своими детскими радостями, отвлекая Сашкино внимание на себя. С годами Мишель так вошла в роль, что постепенно полностью заменила своей неугомонной сестренке мать. Она первая и заметила странную Сашкину особенность: девчонка все время танцевала, под любую музыку, не подражая взрослым, а вполне осмысленно, и с плавным прогибом спины, и с гордым вскидыванием головы, и с заламыванием рук... Она не играла в куклы, как все девочки в ее возрасте, ее не интересовали детские книжки и мультфильмы, казалось, все это ей заменяет постоянная потребность в движении под музыку. Когда Сашке исполнилось шесть лет, Соня привела ее в детскую студию при театре оперы и балета, и Сашку приняли сразу и охотно. Теперь в жизнь Сони вошли заботы о белых маечках и юбочках, тапочках и носочках, нужно было рассчитать и время, чтоб не опоздать на занятия. Постепенно обязанность водить Сашку в балетную студию полностью перешла к Мишке, девочки возвращались домой поздно, и их практически ежевечернее отсутствие Соню вполне устраивало. Постепенно они разбились на два противоположных лагеря, живущих по принципу мирного сосуществования: одна комната – большая – являлась Сониной неприкосновенной территорией, другая комната – поменьше – территорией дочерей.
Лишь изредка Соня, словно спохватываясь, виновато заглядывала к ним в комнату, чтобы задать несколько риторических вопросов о том, все ли у них в порядке, и сама постановка этих вопросов уже не предполагала отрицательного ответа. «Да, мамочка, все в порядке», – в два голоса бодро отвечали девочки, будто соблюдая некий ритуал по подтверждению наличия у Сони ее материнского статуса. Конечно, Соня не забывала про свои обязанности матери и хозяйки, готовила еду, стирала и гладила детские вещи, раскладывала по полочкам, никуда не торопясь, сочетая домашние хлопоты с прогулками по магазинам, чтением, аэробикой, йогой, травяной ванной, маской для лица, телевизором... Да мало ли на свете приятных дел, когда никуда не надо торопиться и трястись от страха сделать что-то неправильно, когда дети не доставляют тебе особых хлопот!
А Машку Соня вообще привезла из отпуска. Она отдыхала одна в сочинском санатории, и случился у нее бурный и красивый роман с прогулками на яхте, и морем цветов, и шампанским, и ночными купаниями голышом, и страстными объятиями. И банально, и смешно, и грустно... Соня никогда не была верной женой Игорю, она вообще умела нравиться мужчинам, но всегда вовремя и удачно выбиралась из отношений, возвращаясь в свой спокойный, отлаженный семейный мир. А там, в Сочи, то ли южный влажный ветер унес на время все ее осторожности и страхи, то ли она по-настоящему влюбилась, но с ней произошло чудо: целых две недели она жила совершенно другой жизнью, наполненной незнакомым ей состоянием ее, Сониной, любви. Позже, уже дома, поняв, что беременна, она решила оставить этого ребенка, несмотря на критический для родов возраст, на отсутствие материальных возможностей. Этот ребенок был для нее доказательством чего-то, а чего – она тогда и сама не понимала, скорее всего – возможности жить и другой жизнью, настоящей, как бывает у других людей, с искренней любовью, а не с каменной стеной и надежным тылом. Так родилась Машка, маленький кудрявый конопатый ангел, которому в конце концов были рады все – и Игорь, и Мишка с Сашкой и которому пришлось донашивать все детские вещи старших сестер, бережно сохраненные Соней, и, подрастая, потеснить их в девичьей комнате, войдя в общий ритм этой странной семьи, присоединяя свой тонкий голосок к общему бодрому ритуальному ответу: «Да, да, мамочка, у нас все хорошо, у нас все в порядке...»
А Игорь все работал, выбиваясь из сил, кормил и ублажал свое большое семейство, хватался за любую халтуру днем, ночами бомбил на своем стареньком жигуленке, купленном на братовы деньги, крайне редко бывал дома, осознавая лишь наличие у него семьи, а не себя в ней, любя всех заочно, без общения, но преданно и искренне. В жизни его, по сути, ничего и не менялось, он с детства привык жить в трудах и бедности, а с появлением Сони эта бедность стала всего лишь более уютной, задрапированной Сониными книгами, непонятными ему репродукциями импрессионистов, необычными пледами да колокольчиками «музыки ветра», развешанными по всей квартире. Есть где жить, есть ради кого жить, есть на чем ездить... Много ли ему нужно? Все у него есть! Даже дача есть, если можно назвать так домик-развалюху в деревне, доставшийся Игорю в наследство от деда с бабкой, куда она, Соня, переселялась на лето. И на природе расцветала, это была ее стихия, с прогулками по лесу, с рассветами и закатами, с переплетением солнечного света в ветвях старой липы во дворе, за которым можно наблюдать бесконечно, с чашкой кофе и сигаретой по утрам на крылечке, с зарослями мать-и-мачехи и лопухов, с обязательной субботней банькой... Он приезжал к ним на выходные, с Мишкой вдвоем поливал и полол грядки, что-то работал по хозяйству, никогда ей не мешая, как обычно, как было всегда на протяжении этих долгих счастливых лет...
Господи, ну зачем она затеяла этот дурацкий Мишкин день рождения? Что это ей в голову вдруг пришло?!
МИШЕЛЬ
Привычка никогда не смотреть на себя в зеркало появилась у нее с детства. Нельзя сказать, что она была совсем уж равнодушна к своей внешности, просто чего в него смотреться-то, в это зеркало? Лучше все равно не станешь. И такой красивой, как мама, не станешь, и такой грациозной, как Сашка, тоже.
«Мишка вся в отцовскую породу пошла. Вырастет, будет такая же большая и косолапая, – смеясь, говорила во дворе мама соседке тете Наде, держа ее, пятилетнюю, за руку. – И будет у нас не девочка, а Мишка косолапый! Да, дочь?» С тех пор она стала бояться подходить к зеркалу. Вдруг и правда она такой вырастет? А ей хотелось быть похожей на маму – красивую, нарядную, умную... Вот если б она стала такой, мама бы, наверное, больше ее любила. А как можно любить косолапого медведя? Да никак! Но она будет стараться изо всех сил, будет помогать, будет всегда послушной и доброй девочкой, и тогда мама ее полюбит, обязательно полюбит!
В это грустное апрельское утро привычным уже движением послушная и добрая девочка, не глядя на себя в зеркало, заколола собранные на затылке волосы и, поглядывая на часы, тихо вышла в прихожую, надела куртку, осторожно закрыла за собой дверь. На кухню выходить не стала, чтобы не разбудить маму. Пусть спит подольше, вчера совсем расклеилась... Хоть бы сегодня Элька пришла на занятия! Ей надо обязательно встретиться с отцом. Он не мог так поступить, не мог! Он никогда не был ни решительным, ни жестоким. Мама что-то не поняла, наверное.
Хотя кто его знает... Ведь три дня назад, когда, выходя из института, она увидела его в машине целующимся с Элей, очень удивилась, что эта картинка не оскорбила ее. Скорее, даже наоборот. Она как будто была рада за отца. И мама тут была ни при чем. Казалось, увиденное не имеет к ней никакого отношения, а существует отдельно, само по себе. Мишель стояла и завороженно смотрела на Элькины руки, обнимающие отцовский затылок. И не могла оторваться. И тихо так гордилась, вместо того чтобы задуматься о том, чем это грозит маме, им всем...
Она всегда очень жалела отца, жалела всем сердцем. Соскакивала с постели среди ночи, услышав его возню в коридоре, бежала на кухню, чтобы покормить после трудной «бомбежки». Сидела рядом, смотрела на рано постаревшее его лицо, всегда небритые щеки, запавшие тусклые глаза, вдыхала запах бензина, усталости и заботы. Пока он ел, рассказывала о своих новостях, обсуждала Сашкины и Машкины проблемы. Ему первому рассказала она и о Димке, своем друге, студенте медицинского института, с которым встречалась вот уже три года. «Пап, он говорит, что любит меня... Неужели меня, вот такую неуклюжую, можно любить?» – как-то спросила она у отца на очередных их ночных посиделках. Отец странно и долго смотрел на нее, потом, гладя по распущенным волосам своей большой ручищей, прошептал: «Только таких, как ты, и можно любить. Ох и свезло же твоему Димке, вот свезло! Знаешь, как говорят? Не у всякого жена Манька, а кому Бог послал...»
Димка был, как считала Мишель, подарком судьбы: и любимым мужчиной, и другом, и личным психоаналитиком, и нуждающимся в ее заботах младшим братом. Внешне он выглядел вовсе неказистым, был невысоким, щуплым, сутулым, носил большие очки с дурацкими серо-голубыми стеклами, не разбирался в моде, но в то же время, как говаривала мама, был настолько обезображен интеллектом, что его внешность отходила куда-то на задний план. Если в пылу спора он резким движением снимал свои громоздкие очки, на собеседника выплескивался такой яркий свет внутренних позитивных эмоций, что уже и в голову не приходило называть этого парня некрасивым. За три года они ни разу не поссорились, принимали друг друга полностью и без условий.
Поделиться8Вторник, 5 февраля 00:07
Длинных разговоров о любви не вели, просто признавая обоюдную необходимость их совместного будущего, которое должно автоматически и счастливо продолжиться в городе Мариуполе, откуда Димка был родом, где жили его родители, потомственные врачи, и куда он должен был вернуться через два месяца, потому что ровно два месяца оставалось до получения диплома и клятвы Гиппократа.
К ее семье Димка относился очень настороженно, не пытался ни обсуждать что-либо, ни давать оценок, но Мишель видела, что он многого не понимает, вопросов же не задает из вежливости. По Димкиным рассказам она знала, что родители его очень любят друг друга, что живут они вместе с его старшими братьями и их семьями в большом доме на берегу Азовского моря, который строили всей семьей несколько лет и в котором для них уже была приготовлена отдельная большая комната на втором этаже с балконом, с видом на большой сад и море.
А вдруг отец и правда решил их бросить? Она ж не сможет тогда уехать ни в какой Мариуполь, не сможет бросить маму одну с Сашкой и Машкой... Нет, надо уговорить отца остаться! Он же не может допустить, чтоб Димка уехал без нее, он же любит ее, сам говорил...
Увидев в институтском коридоре Эльку, она так кинулась ей навстречу, что та поначалу шарахнулась испуганно, долго не могла понять, чего от нее хочет Мишель, потом согласилась отвести к отцу. После занятий они вместе вышли из института и пошли на бульвар, где должен был ждать Эльку отец. Она вообще была очень симпатична Мишель, эта Элька, деревенская толстушка, белая бусинка, румяная, открытая, искренняя, излучающая веселое горячее здоровье.
Мишель увидела отца издалека, он сидел на скамейке, подставив солнцу лицо, закрыв глаза, улыбался блаженно. Элька, пробормотав что-то про «подойду попозже», деликатно исчезла в двери первого попавшегося магазина. Мишель подошла, села на скамейку рядом, тихо позвала:
– Пап...
Отец испуганно встрепенулся, зачем-то огляделся по сторонам, втянув голову в плечи, потом, будто устыдившись, виновато улыбнулся, робко заглянул в глаза:
– Так вот получилось, доченька. Я и сам не ожидал, что на такое способен...
Мишель смотрела на него и не узнавала. Видела, что ему совсем не хочется говорить, объясняться, да и сама не могла задать главные свои вопросы. Сидела и молчала как последняя идиотка, с трудом пытаясь проглотить огромный слезный комок, который проглатываться ну никак не хотел, а совсем даже наоборот, норовил все больше увеличиться в размерах. Отец сидел, низко опустив голову, нервно тряс коленкой. Не выдержав ее молчания, заговорил первым, будто с силой выдавливая из себя слова:
– Мишенька, ты осуждаешь меня – и осуждай. И правильно. Как бы то ни было, я уже не смогу жить как раньше. Я кончился, понимаешь? Вот так резко взял и кончился! И Эля тут ни при чем! Если я ничего не изменю, то просто умру. Я не жил двадцать пять лет, я просто обеспечивал мамин покой, а сейчас я живу уже целых девять дней!
– Пап, а разве это так уж ужасно – обеспечивать покой человеку, который в тебе уверен, которому ты необходим...
– Нет, это не ужасно, просто когда-то наступает предел. Миш, я не буду ничего объяснять, ладно? Ты просто прими это как факт. И живи своей жизнью. Выходи замуж, уезжай. Он хороший парень, этот твой Димка... И помни, что я тебя тоже очень люблю.
– Как это – уезжай, папа? Я что, брошу маму, Сашку, Машку и спокойно уеду?
– Да, и спокойно уедешь! И даже обязательно уедешь! Мама не инвалид, в конце концов, а здоровая молодая женщина! Будет работать! И зарабатывать! И еще спасибо нам с тобой потом скажет! И Сашка уже большая... И Машка вырастет... И квартиру я оставляю... И не вздумай даже делать из себя жертву! Хватит с нее и меня! – Он говорил все более раздраженно, как человек, уставший уже десятый раз объяснять очевидные для него вещи.
– Кстати, ты не знаешь, деньги у мамы есть? Я ведь помогать совсем не смогу, мы квартиру сняли, надо было заплатить за три месяца вперед. Ты скажи ей, пусть с трудоустройством поторопится! И пусть не ждет, не теряет время. И обсуждать это я не буду. Все. Если хочешь, попытайся меня понять. Ты ж меня всегда понимала!
Он обернулся к ней, хотел еще что-то сказать, и замолчал, и распрямился весь, расплылся в улыбке совсем по-детски. Мишель поняла, что по бульвару к ним идет Элька и отец больше не услышит ее. Когда вот так же ей навстречу шел Димка, она тоже про все забывала и не хотела больше ни о чем думать. А может, отец прав? Может, за свое счастье именно так и надо бороться, закрыв на все глаза, отодвигая разом все долги в сторону? Она ж так мечтала счастливо жить в городе Мариуполе, на берегу моря, своей маленькой жизнью, день за днем, для Димки, для себя! Вот сейчас она наберется смелости, придет домой и скажет маме о своем решении...
Она так глубоко задумалась, что вздрогнула, когда ее тронули за плечо. Подняла голову, увидела отца и Эльку, склонившихся над ней.
– С тобой все в порядке? Ну не переживай так, Мишк... Давай мы тебя домой отвезем!
В машине ехали молча, старая «шестерка» вся скрипела и дребезжала, казалось, вот-вот развалится на части, как разваливалась на глазах вся их несуразная семья.
Когда подъехали к дому, Элька обернулась с переднего сиденья, попросила виновато:
– Мишк, ты вынеси Игорю вещи, одежду там какую-нибудь, документы... У него ж ничего нет, а сам он не пойдет, не хочет...
– Да, конечно, только не сейчас... Ты позвони завтра, я скажу, когда можно забрать.
– Ты не обижайся на нас, ну так вот получилось, что теперь делать. Ладно?
– Ладно, не буду. Все в порядке. Пока.
Она вышла из машины, деликатно хлопнув дверцей, медленно пошла к подъезду. Идти домой не хотелось. Порыв смелости куда-то улетучился, она чувствовала себя предательницей. «Нет, сегодня ничего маме не скажу, – решила Мишель, нажимая на кнопку звонка. – Потом, все потом...»
СОНЯ
Сердце бешено заколотилось, когда у подъезда вдруг остановился их старенький «жигуленок», такой родной и знакомый, весь забрызганный весенней грязью. Соня отскочила от окна, заметалась по комнате, что-то на себя надевая, спешно причесываясь, пытаясь побороть волнение. Бросилась к двери, стояла, трясясь всем телом, будто решался вопрос ее жизни и смерти. Сильно вздрогнула от звонка, дрожащими руками потянула рычажок замка. И отступила в глубь коридора, встречая Мишель.
– А где отец? Я видела машину...
– Мам, он больше не придет. Он действительно ушел, мам...
Соня задохнулась, схватилась за горло, ушла на кухню. Села за стол, широко открытыми глазами уставилась в никуда, тихо раскачиваясь всем корпусом, с силой прижимая локти к бокам. Вошла Мишель, села напротив.
– Мамочка, ну не надо так, мы справимся...
– Кто справится и с чем справится? – зло и капризно заговорила, почти закричала Соня. – Ты знаешь, сколько мне лет? Что у меня впереди? Старость, климакс, болезни? Вечный поиск работы ради копеечной зарплаты?
– Мамочка, ты же у нас умница, красавица, выглядишь очень молодо... У тебя еще все устроится!
– Ничего у меня уже не устроится, не говори глупости! Кино насмотрелась? Про слесаря Гошу из электрички? Или про новогоднего врача в образе счастья? Нет, дорогая, в жизни все по-другому устроено! И на мою голову из самолета прямо в квартиру не свалится добрый интеллектуал, под гитару поющий, неженатый, готовый влюбиться за одну новогоднюю ночь...
– Мам, ну не надо, прости меня, я говорю все не то, наверное. Но ведь ты же и с папой была одна, сама по себе, значит, не нужен он тебе. Ты же его не видела, не замечала...
Что изменится-то в твоей жизни?
– У меня было все, понимаешь? У меня был статус замужней женщины, который меня спасал, давал защиту от хамов и возможность выбирать, ходить мне к этим хамам на работу каждый день или быть свободной от них! А сейчас я кто? Да никто!
– Ага, а отец, значит, и был предназначен только для того, чтобы давать тебе этот статус!
Соня и Мишель, одновременно вздрогнув от неожиданности, повернули головы. В дверях кухни стояла Сашка, розовая после душа, с тюрбаном из полотенца на голове, в коротком халатике, открывающем для обозрения идеальные ровные ноги.
– Мам, ты хоть помнишь, как он выглядит? У него ведь даже места своего здесь не было, когда приходил, и куртку, и брюки, и рубашку снимал в коридоре! Ты понимаешь, что у тебя мужа-то и не было никогда? А если тебе статус нужен, так не ставь штамп в паспорте о разводе...
– Сашенька, ты меня не понимаешь...
– Да все я понимаю! Тысячи женщин живут без мужей, и ничего, не умерли, работают и счастливы... Я вот, например, замуж не хочу вообще выходить. Сама себе на жизнь заработаю столько, сколько мне надо. И мне никто не нужен. И из-за статуса никогда страдать не буду.
– Ну, пока ты еще начнешь зарабатывать по своим потребностям, много времени пройдет, – жестко сказала Соня.
– Да нет, мам, не так уж и много... Не хотела говорить пока, да ладно. В общем, меня взяли на работу в ночной клуб стриптизершей. Через два месяца получу аттестат, схожу на выпускной – и за работу! Я понимаю заранее, что вы против. И даже очень сильно, и даже категорически против. Договоримся так: я ставлю вас перед фактом, а все остальное – без меня!
Сашка грациозно развернулась, подхватив развязавшееся полотенце, и исчезла, оставив мать и сестру в состоянии шока.
– Ты что-нибудь поняла? – спросила Соня. – Что она имела в виду? Какой ночной клуб? Какой стриптиз? Что-то я совсем ничего не соображаю... Голова кружится, плохо мне что-то, Мишка...
Соня кое-как добралась до дивана, легла не раздеваясь, укрылась с головой, затихла. Противная тошнота подступила к горлу, даже плакать не было сил.
Пусть все проваливается, пусть все уходят в любовь, в стриптиз, куда угодно, она больше не встанет с этого дивана, пусть делают что хотят...
САШКА
– Ты что, с ума сошла? Разве так можно? Ты что, не видишь, что ей и так плохо? – накинулась Мишель на Сашку.
– Ой, не надо про плохо, это нам с тобой плохо, это отцу плохо, а ей всегда было хорошо! И не надо мне снова рассказывать сказки про то, что мама у нас не такая, как все, что у нее свой там какой-то особенный мир... Запереться в старой хрущобе, избегать людей, до умопомрачения читать книжки – это ты называешь особенным миром? А у тех, кто умеет работать и зарабатывать, кто умеет сам делать свою жизнь, у них что, не особенный мир?
Сашка все больше распалялась, почти кричала, и Мишель умоляюще сложила руки, показывая глазами на дверь:
– Тише ты, мама, кажется, уснула...
– Ты знаешь, Мишка, мне тоже ее в общем-то жалко... – уже спокойно заговорила Сашка. – Только я никогда не буду жить так, как она. У меня все будет: и деньги, и машина, и квартира своя, и куча шмоток всяческих! И зависеть от мужиков я не буду! И бояться ничего не буду!
– И это ты все стриптизом собралась заработать? Машину, квартиру, деньги... Сашка, я надеюсь, это несерьезно. Ты хоть понимаешь, что это такое? Через какие унижения надо пройти?
– Понимаю. Я все понимаю. И ко всему я готова. Самое главное, что мне это нравится, понимаешь? Нравится танцевать у шеста, нравится, что на меня смотрят, и наплевать, какими глазами, меня это не пробивает нисколько. Ты знаешь, у меня уже ведь идут репетиции, и когда я танцую, я сама улетаю, не думаю ни о чем, ни как я выгляжу со стороны, ни что обо мне думают... У меня тело во время танца само по себе живет. Я посмотрела кассету со своим танцем, ты знаешь, это что-то! Вот такой вот парадокс: мама улетает от Чехова, а я – от стриптиза...
Поделиться9Вторник, 5 февраля 00:10
– Ой, Сашка, не пугай меня. Я даже слушать тебя боюсь, а маме вообще плохо стало.
– Да ладно тебе, плохо ей! Ей не из-за меня плохо, а за себя, любимую, страшно: что-то теперь будет...
– Не надо так, Саш... Ну я прошу тебя, не надо так про маму! Ты совсем, совсем ее не любишь!
– Да я-то, может, как раз больше ее люблю, чем ты. Потому что не боюсь. А ты все выслуживаешь любовь, боишься сказать не так, сделать не так: а вдруг твоя драгоценная мамочка на тебя обидится! Даже боишься сказать ей, что никакого красного диплома тебе не светит. Врешь и врешь уже пять лет почти... Как же, ведь мама должна тобой только гордиться, а по-другому просто ну никак нельзя! Придется тебе, Мишка, свой обыкновенный синенький диплом раскрашивать красным лаком для ногтей! Обращайся, у меня такой есть! А что? Для любимой мамочки мне ничего не жалко, даже лака... И вообще, в мои дела больше не лезь! Я сама буду все за себя решать, поняла? Я уже и контракт подписала!
– Сашка, тебе ж восемнадцать всего! Ты глупая еще совсем, жизни не знаешь, какой может быть стриптиз! Тебе же в институт поступать надо!
– Ага, я должна повзрослеть, получить высшее образование, потом набраться жизненного опыта... Только пенсионерок, Мишенька, в стриптиз, к сожалению, не берут...
– Господи, какой сегодня тяжелый и длинный день... И Димке я так и не позвонила! Надо еще Машку покормить. Кстати, где она? Опять у Лизки сидит? Давай спать пораньше ляжем, утро вечера мудренее, а, Сашенька?
В обычных хлопотах прошел их вечер, вместе они привели от соседской девочки Машку, и покормили, и уложили спать, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить мать.
Сашка долго не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, пытаясь найти нужное положение, долго лежала с открытыми глазами, таращась в темноту и слушая тихое сонное дыхание сестер. Потом встала, на цыпочках прошла на кухню, закрыла дверь, закурила мамину сигарету. Чего это она развоевалась?
Наехала на Мишку, на мать... Она как-то уже привыкла к ней, блаженной, капризной, всегда отстраненной, рассуждающей о духовности и не замечающей, что Мишка всю зиму ходит в легкой курточке, что Машке уже отчаянно малы ботинки, а уж про отца и вообще говорить нечего! К самой себе Сашка такого отношения не прощала, требовала положенного ребенку внимания и заботы, хотя в итоге все это и перекладывалось на широкие Мишкины плечи. Сашку-маленькую надо было встречать и ехать через весь город домой после занятий в детском театре-студии, где она была танцевальной примой, надо было шить сложные сценические костюмы, готовить правильную диетическую еду, собирать на гастроли, следить за безукоризненной белизной носочков, тапочек, юбочек... Она очень быстро привыкла быть примой, привыкла солировать и это желание всегда быть первой перенесла и во взрослую жизнь. Ну в самом деле, не может же прима носить старые вещи, доставшиеся от старшей сестры, ей нужно все самое модное, красивое, изящное, соответствующее ее образу стервозной красотки. А в том, что была красива, Сашка не сомневалась. Она и сама себе жутко нравилась. В ее облике не было ничего от сложившегося стереотипа красоты – худой и костлявой девушки-модели. Казалось, наоборот, в ее теле вовсе не присутствовало никакого скелета, оно было не худым, а тоненьким, как будто беззащитным, детским, гуттаперчевым, готовым в любую минуту зажечься музыкой танцевальных движений, и в то же время присутствовала в нем какая-то необъяснимая агрессивная порочность, которая в сочетании с детской трогательной беззащитностью и создавала образ эдакой ласковой стервы, тоненькой, красивой ивовой веточки и одновременно хлесткой, безжалостной розги.
Она никогда специально не училась стриптизу, но на работу в престижный ночной клуб ее взяли сразу, после первого же кастинга, хотя ни танцевать у шеста, ни эротично раздеваться под музыку Сашка не умела. Она и не удивилась, приняла все как должное, иначе и быть не могло. Удивилась только, почему этим обстоятельством так возмущена Майя, ее обожаемая любимая Майя, педагог ее детского театра, отставная сорокапятилетняя балерина, то ли подруга, то ли дуэнья, то ли наперсница – они и сами не смогли бы определить их отношений, но так уж получилось, что ближе и роднее у нее никого на этом свете не было. Ну может, кроме Мишки, пожалуй...
Ни семьи, ни детей у Майи не было никогда. Жила она в коммуналке в доме дореволюционной постройки, в огромной комнате с ширмами, веерами, старинной мебелью, дубовым рассохшимся скрипучим паркетом и тяжелой лепниной на потолке. Майя рассказывала ей, что родителей потеряла еще в раннем детстве и сердобольные соседки, пытаясь пристроить девочку получше и как-то сохранить за ней комнату, отвели ее в хореографическое училище. И маленькую Майю приняли не столько за способности, сколько из сочувствия к ее сиротству.
Ученицей она оказалась старательной, истязала себя до изнеможения, но особых талантов так и не показала. Честно протанцевав в театральном кордебалете до положенных тридцати трех лет и уйдя на пенсию, стала преподавать классический танец в детской студии, созданной тут же, при театре, куда и привели в свое время шестилетнюю Сашку. Вдруг удачно открылись в ней педагогические способности, вместе с режиссером Майя занималась постановкой детских спектаклей, довольно успешных, всегда аншлаговых. В театре проводила все свое время, так и живя бобылкой в своей огромной комнате в старинном доме, бережливо сохраненной соседками. Маленькая, прямая, жесткая, всегда с одной и той же прической – туго стянутыми назад черными волосами, отчего ее смуглое лицо казалось тоже стянутым назад, вместе с высокими скулами и узкими холодными глазами, Майя на фоне маленьких ангелочков в белых юбочках смотрелась эдаким Карабасом в женском обличье. «Веселова! Александра! Что ты мне опять нимфетку изображаешь? Тоже мне, Лолита нашлась!» – кричала она своим низким, чуть хрипловатым голосом на Сашку, которая никак не могла взять в толк, чего от нее хотят и кто такая эта самая Лолита, которая так не нравится ее преподавательнице. Постепенно Сашка каким-то своим детским чутьем распознала в Майе скрывающуюся за видимой жесткостью родную душу и потянулась к ней всем своим существом. Она буквально висла на ней, по-детски, искренне и преданно дружила и, повзрослев, целыми днями пропадала у нее дома, читала ее книги, дружила с соседками, впитывала жадно в себя Майин мир. Ее как магнитом тянуло в эту коммуналку, к этой маленькой смуглой женщине, здесь она ощущала себя свободной и любимой, здесь можно было часами разговаривать обо всем, можно было просто легко молчать, здесь всегда ее ждали, здесь было тепло, уютно и спокойно. В общем, повезло ей с Майей по-крупному, чего уж там...
«Надо пойти немного поспать, а то встану зеленая и вялая. Завтра трудный день, а надо еще как-то измудриться успеть съездить к Майе, посоветоваться... Утром позвоню ей», – решила Сашка. Затушила сигарету, потянулась к форточке, собираясь выкинуть окурок, и вздрогнула от звука нежно зазвеневшего колокольчика «музыки ветра». В кухонном проеме, щурясь то ли от яркого света, то ли от сигаретного дыма, стояла Соня.
СОНЯ
– Как накурено... – Соня помахала перед глазами ладонью, садясь на кухонную скамейку и осторожно, исподлобья глядя на дочь.
– Мам, ты почему не спишь? Все о статусе своем переживаешь?
– Ну зачем ты так, Саша...
Не будь такой злой! Вот ты никогда не задумывалась, почему общество так трогательно относится к вдовам? Им сочувствуют, всячески помогают, их уважают. И звучит-то как достойно – вдова... А брошенная мужем женщина кто? Да никто! Мадам Брошкина. Предмет для злословия, сплетен и насмешек. А эта самая мадам Брошкина тоже, между прочим, остается один на один с жизнью и тоже нуждается и в сочувствии, и в поддержке, и в уважении... Лучше бы я осталась вдовой!
– Ну ничего себе! – чуть не задохнулась от возмущения Сашка. – Это что получается, раз отец больше не захотел обеспечивать твой статус, то пусть лучше умирает? А может, и нам с Мишкой и Машкой умереть, чтоб у тебя клейма «плохая мать» не было? Ну ты даешь, мам... Знаешь, у меня часто появляется чувство, что ты живешь не с нами, а сама по себе, в эдаком стеклянном домике и вроде как видишь все оттуда, и мы тебя видим, а вместе быть не можем... И есть ты, и нет тебя! Где ты, мамочка? Ау-у-у...
– Сашенька, поверь, что я в этом не виновата! Я уже родилась такой, в этом, как ты говоришь, стеклянном домике. И я к нему с огромным трудом приспосабливалась, не думай, что это было легко... Но у меня там, в этом домике, свой мир, свои ценности! И если я когда-нибудь и выйду оттуда, то просто погибну! Ты постарайся понять меня, дочь. Пожалей меня!
Соня тихо заплакала, дрожа губами, размазывая по щекам слезы тыльной стороной ладоней.
– Да ради Бога, мам, пожалеть я могу, конечно. А вот насчет понимания... Зачем тебе вообще дети-то были нужны? Жила б одна, сидела и сидела бы в этом своем стеклянном домике, и никто бы не мелькал у тебя перед глазами! Ни я, ни Мишка, ни Машка... Ты знаешь, я б давно уже свалила отсюда, переехала к Майе, если бы не Мишка. Ты тут без меня ее окончательно загонишь! – Сашка говорила, все более повышая голос, не замечая Сониных горьких слез, почти кричала: – Ты посмотри на нее! Она ж забитая, запуганная совсем, боится тебе слово сказать! А в чем она ходит, ты вообще замечаешь? Одета как последняя бомжиха! А Машка? Она ж у соседей больше времени проводит, чем дома! Скажи, это я должна понимать?
Прибежавшая на шум заспанная испуганная Мишка вытащила Сашку из кухни, запихнула в комнату, от души поддав коленкой под зад, вернулась к дрожащей и плачущей Соне. Обнимала, гладила по голове, что-то ласково приговаривая, сама прикурила ей сигарету, щедро налила в стакан настойки пустырника, чуть разбавив водой, заставила выпить.
– Мишенька, ты ведь меня не бросишь? Ты ведь никуда не уедешь от меня? Я без тебя не смогу, не справлюсь, – приговаривала Соня, всхлипывая, следя глазами за ее суетой.
– Конечно, мама, мы же вместе, мы справимся...
Мишка отвела ее в постель, уложила, укутала, посидела рядом, похлопывая по боку, как ребенка. Когда Соня уснула, вернулась к себе в комнату. Сашка спала как убитая, чему-то улыбаясь во сне, рука ее была красиво закинута над головой, волосы разлетелись по подушке, переливались глянцем в еще слабом утреннем свете.
– Стриптизерша, мать твою... – неожиданно зло прошептала Мишка. – Ремнем бы тебя отстегать по твоей красивой заднице...
ИГОРЬ
Он давно уже не спал, лежал не шевелясь, наблюдая за Элей, которая старательно, сведя к переносице белесые бровки, гладила его единственную рубашку. Каждый вечер она ее стирала, а утром гладила. А еще каждое утро она варила ему кашу, заставляла ее съесть, а вечером кормила ужином, сидела рядом, подперев рукой пухлую щечку. А раньше он и не знал, что счастье бывает таким. Когда просто смотришь, как женщина гладит твою рубашку, как солнечный луч падает на ее светлые волосы, и знаешь, что можно позвать, и она оглянется, и обязательно улыбнется, и засияет глазами навстречу...
Господи, за что ж ему такое счастье? Кто он вообще такой? Сонин муж? Отец троих детей? Измотанный работяга-извозчик, насквозь пропахший бензином? Оно, это счастье, свалилось как-то сразу, неожиданно и бурно, как снежная лавина, которая снесла на своем пути и привычно-тягостное чувство долга, и ощущение собственной никчемности, незначительности, убогости. Он давно уже убедил себя, что его личное, Игорево, счастье и в самом деле заключается в том, чтобы материально обеспечивать комфортное Сонино одиночество, приносить себя в жертву, работать, чтобы дать душевный покой своей необыкновенно хрупкой, красивой, умной, тонкой, ранимой жене.
Игорь и сам не смог бы объяснить, что произошло с ним в тот вечер, когда он развозил по домам поздним вечером Мишкиных подружек, и почему сидел до утра в машине вместе с этой белобрысой полной румяной девчонкой и не мог оторваться от нее. Они без конца говорили, перебивая друг друга, и все время целовались, и он дрожал от какой-то счастливой лихорадки, как будто его долго держали в темном затхлом подвале и наконец вывели на яркий солнечный свет. Потом он медленно ехал домой, но так и не доехал. Понял, что не сможет. Тот, прежний, Игорь кончился внезапно, за одну ночь, раз и навсегда. Вместе с ощущением счастливой лихорадки пришел и бурный протест, он не смог бы заставить себя вернуться в прежнюю жизнь, да и не хотел он заставлять себя. Так и не доехав до дома, Игорь решительно развернулся, лихо подрулил к Элиной общаге, прошел через вахту, нашел ее комнату, ворвался без стука, насмерть перепугав девчонок и саму Элю. В институт в тот день она так и не пошла, а к вечеру они уже сняли эту квартиру, сложив вместе все имеющиеся у них денежные запасы и заплатив за три месяца вперед. И начали новую жизнь.
Господи, какое это счастье – жить! Счастье – когда рядом любимый человек, при взгляде на которого внутри все обрывается, и сердце твое плавится в апрельских солнечных лучах от ответной, направленной на тебя радости.
Вспомнилось, как Соня раз в месяц героически посвящала целый свой день стирке его рубашек, потом с брезгливым отстраненным лицом героически их гладила, и он искренне верил, что она совершает подвиг, и был виноват и благодарен, благодарен и виноват... Нет, он больше не будет об этом помнить! Он будет жить и жить, как получится, сколько получится, и ни один день своей жизни никому, кроме Эли, больше не отдаст!
Но забывать не получалось. В душе росло и крепло раздражение даже не на Соню, а на самого себя. Как он мог так бездарно распорядиться своей жизнью? В конце концов, он же человек, а не каменная стена... Он даже за вещами своими не хотел идти. Не мог видеть Соню. О детях почему-то вообще не думалось. Никак. Ни с чувством вины, ни без него. Вчера, когда он увидел Мишку, кроме неудобства и досады, вообще ничего не испытал. Пусть они оставят его в покое! Он кончился, умер, исчез! Хотя идти за вещами все равно придется. Не гладить же Эле, в самом деле, каждое утро его единственную рубашку, хоть ему и нравится наблюдать за ней, притворяясь спящим. У нее такая забавная сосредоточенная рожица, нахмуренные белесые бровки, вся она такая маленькая, круглая, родная и близкая, его жемчужная бусинка... Пусть у них огромная разница в возрасте, и нет денег, и вообще ничего нет, кроме его разбитого «жигуленка». Они счастливы вместе, и ничего им не надо.
Вот он сейчас встанет, съест сваренную Элей кашу, и отвезет ее на лекции, и будет работать, и сегодня ему непременно повезет – обязательно найдется выгодный клиент, а вечером он встретит ее возле института, и вместе они поедут через весь город в их временное жилище, и вместе будут готовить нехитрый ужин, и вместе его есть, и вместе, обнявшись, спать... Господи, как хорошо!
МИШЕЛЬ
Они сидели на бульваре, на той самой скамейке, где только вчера Мишель встречалась с отцом, и ссорились. Вернее, ссорился Димка. Сердито молчал, обиженно съежившись, смотрел куда-то вбок.
Потом резко развернулся к ней, снова заговорил горячо и напористо:
– Знаешь, если бы мои родители разводились, это было бы только их личным делом! Потому что у меня нормальные родители! Чего ты зациклилась на этом? Сможет без тебя мама, не сможет... Ты, Мишка, наверное, чего-то недопонимаешь, просто привыкла всех опекать, тебе и кажется, что без тебя никто не обойдется.
– Да она ничего от меня не требует. Я сама должна...
– Ничего ты никому не должна! Ты сама должна быть счастливой, а никакого другого долга у тебя нет! В конце концов, твоя мама и не одна остается, у нее еще две дочки есть!
– Ты же знаешь, Машка маленькая еще, а на Сашку какая надежда, она вон в стриптиз собралась... Представляешь, что это будет? Ей же восемнадцать лет всего! Дура малолетняя, нахалка самоуверенная! Еще вчера об этом и маме объявила!
– Ну и что? Ведь это ее выбор. Кто-то должен лечить людей, кто-то должен вести бухгалтерию, а кто-то должен танцевать в стриптизе. Ни одно место в этом мире не должно пустовать.
– Ну как ты можешь! Это же моя сестра!
Мишель почувствовала, что сейчас расплачется. Она всегда и во всем соглашалась с Димкой, могла часами слушать, как он философствует. И маму так же она могла часами слушать, и с ней всегда во всем соглашалась. Теперь от нее требовали сделать выбор. А она не умеет, не может. Она просто любит всех одинаково – и маму, и Димку, и отца, и Сашку с Машкой...
– Дим, а может, нам пока здесь пожить? Найдешь работу, снимем квартиру... Ну как я их тут всех оставлю?
– Нет, с тобой бессмысленно разговаривать. Меня в Мариуполе тоже родители ждут. И тебя, между прочим, тоже! И дом у нас большой, всем места хватит. И место мне в хирургии уже нашли...
– Ну хорошо, хорошо, не сердись! У нас с тобой есть еще два месяца в запасе...
– Нет, Мишка, я не останусь. Тебе все-таки придется решать. И надеюсь, ты примешь правильное решение. Не будь рыбой! Не поджаривай сама себя на сковородке, не подавай сама себя к столу!
– Ты знаешь, а мама говорит, что переделать человека нельзя... Если я по природе рыба, которая сама себя поджаривает, значит, я такой и буду всегда. Может, не по форме, а по содержанию-то уж точно.
Димка долго смотрел на нее, задумавшись, потом обнял за плечи, притянул к себе, заговорил уже спокойно и ласково:
– Ну что ж, будь рыбой, поджаривайся, но только для меня. По крайней мере я тебя не съем. Будешь у меня всегда красивой поджаристой золотистой рыбкой...
Опять ей захотелось плакать. Вот наплакаться бы вдосталь у него на плече, вылить все накопившиеся за последние дни слезы... Нельзя, надо идти домой, поздно уже, мама, наверное, там с Сашкой с ума сходят. Ну вот как она уедет?
Эту же стриптизершу, мать твою, без пригляда ни на минуту нельзя оставить! Уж она-то знает, что есть такое ее сестра. Правда, можно попросить Майю присматривать за ней, единственную авторитетную для Сашки личность, мама уж точно с ней не справится. Вот почему, интересно, Майя может управлять Сашкой, а мама нет? Ведь она такая умная, все на свете знает! Может часами рассказывать о гармонии отношений, о равновесии, о человеческой природе, а в своей собственной семье никакой гармонии и в помине нет... Может, Сашка не так уж и не права, обвиняя маму в эгоизме?
«Господи, что это со мной? О чем я думаю? Это все Димкино влияние», – встрепенулась Мишель, отрываясь от его теплого плеча.
– Дим, мне уже бежать надо, извини. Ты не провожай меня, посади на автобус, я сама доеду.
Молча дошли до автобусной остановки. Слава Богу, автобус подошел полупустым, можно спокойно посидеть одной, посмотреть в окно, подумать.
Как они смеют вообще обижать маму? Отец, Сашка, вот теперь Димка... Она ж совсем как ребенок, который, как говорится, чем бы ни тешился, лишь бы не плакал.
Да, мама могла целыми днями читать, не вылезая из своего кресла под желтым абажуром, и все они ходили на цыпочках, боясь помешать. Да, могла гулять целыми днями по городу, заходя в уличные кафе, сидеть в них часами с чашкой кофе и стаканом воды, наблюдая «движение жизни» и при этом не заботясь, есть ли у них что-нибудь на ужин, могла увлечься новомодной гимнастикой, которой рекомендуется заниматься именно по утрам, как раз в то время, когда им надо собираться в институт, в школу, в детский сад... Правда, иногда, очень редко ее посещал интерес к кулинарным изыскам, но всегда именно в одной плоскости, которая называлась «как из ничего сделать что-то». Она сама замешивала какое-то необыкновенное тесто, колдовала над начинкой из самых дешевых продуктов, до неузнаваемости их изменяя, и получался действительно необыкновенно вкусный пирог. Могла часами ходить по магазинам, рынкам, секонд-хэндам и находила очень дешевую, но действительно красивую, даже изысканную шмотку, которая выглядела и дорого, и престижно, и шла ей просто великолепно. Она никогда никуда не торопилась, ходила медленно, с достоинством, всегда глядя куда-то поверх голов. Казалось, будто идет она не в свою бедно обставленную двухкомнатную квартиру, а по меньшей мере в собственный особняк с лакеями, горничными, каминами, пальмами, французскими духами... Ее нельзя было не любить, нельзя было не восхищаться ею, и пусть она будет всегда такой. Димка очень даже хорошо проживет в своем Мариуполе, а мама без нее не справится. Ее просто растопчут, задавят, затюкают, уничтожат, в конце концов! Отец больше не смог ее защищать, а она сможет. Она сильная и выносливая, через два месяца начнет работать, и все у них будет хорошо! Пусть мама читает свои книжки и гуляет по солнечным улицам, она не даст ее в обиду! Не прав, не прав Димка, называя ее рыбой! Разве это так уж плохо – пожертвовать собой, давая покой другому человеку, так нуждающемуся в этом покое?
Она чуть не проехала свою остановку, выскочила из автобуса, быстро пошла в сторону дома. Зашла в продуктовый магазин. Денег хватило только на хлеб и молоко. «Да, с деньгами действительно скоро будет катастрофа», – подумала Мишель, выходя из магазина. Добытчика-то теперь нет, не на Сашкин же стриптиз рассчитывать, в самом деле. Слава Богу, тетя Надя, соседка, обещала договориться в кафе, где она работает, насчет какой-то халтурки. Мишель вспомнила, как отец советовал побыстрее устроить маму на работу. Да, совет, конечно, хороший... Ну да Бог с ним! Счастлив, и ладно. А они, Мишель и мама, уж как-нибудь сами разберутся. Они уже большие девочки, только кто старше, кто младше, уже и непонятно...
СОНЯ
Соня с облегчением выплыла из тяжелого сна, где она опять мучилась своим бредовым сочинительством. Долго лежала, пытаясь сообразить – что сейчас, раннее утро или вечер. Голова болела нестерпимо. В комнате было темно и тихо. Подняла голову, посмотрела на часы. Ничего себе! Было уже очень позднее послеобеденное время. Окна наглухо задернуты плотными портьерами, дверь в ее комнату закрыта. «Я же вчера снотворное выпила, а Мишка мне еще каких-то капель накапала...» – вспомнила Соня, освобождая из плена солнечное окно.
Господи, весна-то какая шикарная! Сейчас бы пойти беззаботно в никуда по солнечным улицам, вдыхая ее одуряющие ароматы, и чтоб солнце било прямо в глаза, много солнца, и ступать в лужи, и промочить ноги, а потом, устав, вернуться домой, налить горячего-прегорячего зеленого чаю, сесть с книжкой в свое желтое кресло... Стало до слез жалко себя, свою беззаботную счастливую прежнюю жизнь, которая разваливалась на глазах как карточный домик. Нет, не карточный, а стеклянный, как образно выразилась вчера Сашка.
Ее стеклянный домик рушился неотвратимо, превращаясь в тысячи острых осколков, которые впивались в тело, в мозг, в душу, парализовали волю, открывая двери всем страхам, какие только можно придумать.
В зеркале ванной, умываясь, увидела в своих черных кудрях несколько седых волос, отметила для себя этот факт равнодушно, как что-то само собой разумеющееся. А раньше бы расстроилась, в панику впала. «Господи, как я хорошо жила...»
На кухне ждала записка от Сашки: «Мама, я после школы – на репетицию, приду поздно, забери Машку из садика». «Что я буду делать с этим ее стриптизом? Как ее отговорить-то? – думала Соня, автоматически прикуривая, ставя турку с кофе на огонь. – Скоро выпускные экзамены, надо в институт поступать, а она в стриптиз собралась! Думаю, Мишка отговорит, она-то умеет с ней ладить, а у меня вот не получается... Хоть бы Игорь появился, надо же что-то делать, она ведь и его дочь тоже, между прочим! Сходил бы в этот ночной клуб, поговорил там по-мужски...»
Для себя возможность сходить в клуб и поговорить Соня категорически исключала. Она никогда не умела вести таких разговоров, когда нужно требовать и настаивать. Могла часами философствовать, спорить, доказывать свою точку зрения только в комфортной обстановке, с близкими или давно знакомыми людьми. С Димой, например, Мишкиным приятелем. Очень умненький мальчик. Жаль, что он скоро уезжает. А может, его попросить сходить? Представился бы там Сашкиным братом...
Кофе Соню не спас. Голова не прояснилась, во всем теле чувствовалась разбитость, будто ее всю ночь колотили палками. Надо было вставать с уютного кухонного диванчика, идти за Машкой в садик. А вдруг, пока она ходит, придет Игорь? Но у него ведь ключи есть... А если он ее не дождется? Соберет вещи и уйдет? Ей бы только встретиться с ним, поговорить, а там уж она на него надавит, она знает, что ему сказать и как сказать, чтоб он одумался, еще и виноватым кругом остался... Он и не идет только потому, что боится этого разговора. Но все равно же должен прийти! У них денег нет, в конце концов! И с Сашкой опять проблемы! Да и ее, Соню, он знает как облупленную... Какая она добытчица? Нет, он должен, должен прийти. Мишка, наверное, чего-то не так поняла.
Соня нехотя вышла в прихожую, оделась, не без удовольствия оглядела себя в большом зеркале. В новой, необыкновенно красивой короткой кожаной курточке абрикосового цвета, отороченной по рукавам и большому капюшону мехом такого же оттенка, в черных джинсах-бриджах, в сапожках на каблуке она себе очень нравилась, черные кудри красиво смешались со светлым мехом, лицо было бледным и отечным, но выспавшимся и гладким. Вот только глаза... Соне опять стало жаль себя, такую красивую, ранимую, испуганную...
«Маша! Веселова! За тобой пришли!» – громко взывала молоденькая воспитательница в сторону копошащихся у детской площадки детей, предварительно проведя с Соней воспитательную беседу на тему уже двухмесячной задержки оплаты за детский сад. Виновато улыбаясь и извиняясь, лепеча что-то про «на днях, и непременно, и спасибо, что напомнили», Соня, быстро схватив за руку подбежавшую дочь, поспешно ретировалась к выходу. Машка, мгновенно почувствовав материнское настроение, шла молча рядом, втянув голову в плечи, как испуганный звереныш, которого только что оторвали от его веселых собратьев и посадили на поводок. Щеки ее еще были румяны от ребячьей беготни, шапка съехала набок, шнурки у одного ботинка развязались совсем и тянулись за ней по грязным лужам. Надо бы остановиться, выдернуть руку, завязать шнурок, да она не смела, так и шла до самого дома, боясь, что вышагнет из ботинка...
Выйдя из лифта, мама неожиданно обернулась к ней, как будто только сейчас ее заметив, спросила: «Хочешь к Лизе?»
Ну конечно, она хочет к Лизе! Лизка была ее ближайшей задушевной подружкой, соседкой по лестничной площадке. Она жила вдвоем с мамой в такой же, как у них, двухкомнатной квартире, и Машка пропадала у них целыми вечерами, играя с Лизкой. Здесь можно было громко разговаривать, смеяться, сколько хочется, смотреть телевизор, есть до отвала тети Надины, Лизкиной мамы, толстые пироги с капустой и картошкой.
Мама, не заходя к себе, позвонила в соседскую дверь. Ей открыла тетя Надя в фартуке, с руками, выпачканными мукой, обрадовалась, заохала, засуетилась между прихожей и кухней. Заставила Машку снять колготки, которые она таки умудрилась промочить, уговорила Соню раздеться, пройти на кухню, начала, как всегда, все, что было в доме съестного, метать на стол, одновременно что-то рассказывая, нарезая, наливая, заглядывая в духовку.
С соседкой, своей одногодкой, Соня общалась давно, с тех самых пор как двадцать пять лет назад переехала в этот дом. Надя тогда жила вдвоем с мамой, продавщицей из овощного магазина, располагавшегося на первом этаже их старой хрущевки, шумной дородной женщиной с желтыми химическими кудельками на голове и квадратными короткопалыми ручищами. Она ловко захватывала рукой сразу три-четыре яблока, приговаривая громко: «Бери, Сонечка, яблочь, сегодня яблочь хорошая, болгарская! Я тебе покрасивше выберу! И моркву хорошую завезли, и свеколь... А хрень брать не будешь?» «Какую хрень?» – вытаращивала на нее глаза Соня. «Ну какую хрень, обыкновенную... Сегодня свежую привезли. Огурцы солить, помидоры, в окрошку потереть можно...» «А-а-а, нет, мне хрень не надо», – пряча улыбку, вежливо отказывалась Соня. «Ты молодец, Сонюшка, и замуж выскочила, и ребеночка родила, а я Надьку свою никак столкать не могу, – по-соседски жаловалась она на дочь. – Вроде и с лица она ничего, и в теле хорошем, а все доброго мужика себе не сыщет...» Претендентов на Надины руку и сердце и в самом деле находилось много, они чередой сменяли друг друга, но личная ее жизнь и в самом деле никак не устраивалась. То будущий зять не соответствовал требованиям Надиной мамы, потому что был недостаточно «простым и работящим», а если и соответствовал, то не хотел жить под полным тещиным контролем, которая, конечно же, всегда желала молодым только добра. То Надя, проявив чудеса независимости, приводила в дом веселого парня, который поначалу вроде бы и приживался, и тещу ублажал, но через какое-то время Надя выходила на люди с синяком под глазом, оправдывая суженого убийственной народной поговоркой «бьет – значит любит»... А потом обе они, Надя с мамой, скрывались у соседей от пьяного буйства «любящего» и спешно вызывали милицию, пока тот изуверски старательно кромсал топором соседскую дверь.
В общем, замуж Надя так и не вышла. Похоронив маму, сильно затосковала в одиночестве и решила родить себе ребеночка в утешение, чтоб, как говорится, «было в старости кому стакан воды подать».
В тот же год, что и Сонина Машка, на свет появилась Надина Лизка, симпатичная смуглая девчонка с раскосыми карими глазками, шустрая и сообразительная. Кто был Лизкиным отцом – оставалось тайной за семью печатями, Надя так никому и не сказала об этом. Не сказала даже Соне, которая была для нее авторитетом абсолютно непререкаемым. Надя, открыв рот, всегда внимала каждому ее слову, буквально боготворила, восхищалась ее внешностью, умом, ленивой грацией, восхищалась ее манерой одеваться, говорить, есть, пить кофе, курить сигарету... Сама же Надя к своим сорока пяти превратилась в толстую тетку-повариху с сильными руками и большим животом, огрубела лицом и душой, работала с утра и до позднего вечера, чтоб хоть как-то прокормить себя и дочку.
Поделиться10Вторник, 5 февраля 00:11
Соня благосклонно принимала Надино восхищение, но дальше пуговиц не пускала, даря ей свою дружбу маленькими порциями, как говорится, «в охотку», чаще всего откровенно ею пренебрегая. Как-то так само собой получилось, что Машка основную часть времени проводила в Надином доме, была всегда накормлена, умыта и обихожена. Иногда Надя покупала им с Лизкой одинаковые платьица, одинаковые курточки и комбинезончики, и это тоже воспринималось как само собой разумеющееся, без проявления Сониной благодарности, как продолжение их странной дружбы.
– Слушай, а ты мне дашь денег взаймы? – спросила Соня, следя за Надиными лихорадочными перемещениями по кухне.
– Дам, конечно. А сколько?
Соня задумалась. А правда, сколько? Сколько надо ждать Игоря? Когда Мишка начнет работать? Господи, как она будет жить-то?
– Я и сама не знаю, Надь... От меня же Игорь ушел...
Впервые вслух произнеся эту фразу, Соня вдруг поверила в ее реальность, поверила, что это может происходить именно с ней, Соней, здесь, сегодня и сейчас. Горло мгновенно перекрыла жесткая слезная волна, которая, не спрашивая разрешения, тут же прорвалась наружу, исказив до неузнаваемости Сонино красивое лицо. Она плакала и не могла остановиться, вытирая мокрые и горячие щеки дрожащими пальцами, изо всех сил стараясь успокоиться, и от этого только еще больше захлебываясь в следующей волне слез. Надя сначала стояла столбом, ошарашенно молчала, переваривая Сонину новость, потом бросилась успокаивать, что-то говорила про «сволочей» и «козлов», наверное, то, что и всегда говорят в таких случаях. Соня и не вслушивалась, но вдруг каким-то особым чутьем уловила в Надином голосе незнакомые нотки, странные такие, чужие, ей несвойственные. Это было похоже на прорывающуюся сквозь сочувствие радость, которая на женском языке называется «ну слава Богу, не одна я такая». Очередная слезная волна, словно испугавшись, откатила назад, глаза моментально высохли. Соня горделиво распрямила спину, посмотрела прямо в Надины глаза. Так и есть. Она не ошиблась. Впервые Надя смотрела на нее не с восхищением, а по-бабьи сочувственно, где-то даже и снисходительно, как на равную.
Соне стало плохо. «Не хватает только бутылки водки на столе и пьяных откровений двух несчастных женщин», – подумала она, раздражаясь и злясь на себя. Сходила в ванную, умылась, вышла оттуда уже с улыбкой, говоря всем своим видом, что продолжения разговора и обсуждения темы не будет. Посидев еще минут десять, засобиралась домой. Деньги у Нади она все же взяла. От сочувственного ее «отдашь, когда сможешь» опять стало нехорошо.
Соня никогда не занимала денег. Не любила быть должной.
В трудные безденежные дни она могла легко морить всю семью голодом, держать всех на овсянке и морковных запеканках, но долгов не делала никогда. Лучше голодная свобода, чем сытое обязательство – таков был ее жизненный принцип, которым она страшно гордилась. Редкие исключения делались только для Сашки, потому что это был как раз тот случай, когда лучше поступиться принципами, чем что-то объяснять...
Квартира встретила Соню тишиной, неубранной постелью, оставленной в раковине грязной посудой. Она устроилась с сигаретой на кухонном диванчике в любимой своей позе, поджав под себя ноги, привычно нырнула в себя, в свой внутренний диалог, самой себе задавая вопросы, сама себе пытаясь на них отвечать.
«Ну что, мадам Брошкина, надо как-то привыкать к своему новому положению», – мысленно обратилась к себе Соня. Надя только что продемонстрировала ей предсказуемую реакцию знакомых. Подруг как таковых у Сони не было, но кое-какие приятельницы, приученные к одностороннему общению, то есть к общению только по Сониному желанию, водились. И все-таки ей не верилось, что это навсегда. «Надо обязательно поговорить с Игорем», – уже в который раз убеждала она себя.
Не верилось ей в скоропалительную его любовь, и все тут. «Он просто устал, изработался. Я в последнее время вообще его не замечала. Права Сашка, у него действительно даже места своего в квартире нет. Вот он придет, и я попрошу у него прощения, и пусть отдыхает, едет на дачу, и Машку с собой возьмет. А я пойду работать», – думала Соня, жадно вдыхая сигаретный дым, будто согреваясь от него изнутри, растворяя в нем свои вопросы, панику и страх.
Работодателям Соня всегда нравилась. Правда, работала она редко, понемножку, исключительно по своей прихоти. Хотелось просто посмотреть, чем там живет и дышит людское общество, и лишний раз убедиться, насколько теплее, свободнее и уютнее в ее маленьком мирке. Она надевала строгий костюмчик, очки в элегантной оправе, включала все свое неземное обаяние и шла на собеседование. Надо признать, не отказали ей ни разу. Каким-то внутренним чутьем предугадывая, что стоит за поставленным вопросом, отвечала всегда то, что хотелось бы услышать отдельно взятому конкретному работодателю. Кому-то нужно было наивно улыбнуться, для кого-то изобразить всезнайку или строгую деловую даму, озабоченную своей карьерой, – все зависело от обстоятельств. Где-то она читала, что быть грамотным специалистом легко, а ты пойди попробуй притворись им, да чтобы еще все в это поверили... Специальность свою она знала плохо, ей всегда было до раздражения скучно разбираться в чертежах, составлять длинные занудные сметы, отчеты, всяческие акты согласования и технические условия, в которых она мало что понимала. Мертвые цифры и сухой бюрократический язык деловых бумаг вызывали стойкое отвращение. Слава Богу, что понятие человеческого фактора отменить не удалось еще ни одному, даже самому безжалостному и принципиальному руководителю: кому-то не прощается даже маленькая ошибка, а у кого-то не замечаются и крупные. Основная Сонина стратегическая задача состояла в том, чтобы не обнаружить своей некомпетентности, завуалировать ее обаянием, улыбкой, обезоруживающей и ненавязчивой доброжелательностью, умными разговорами, вызывая у коллег-собеседников комплексы неполноценности от осознания собственного недоразвитого интеллекта, увести ловко в сторону, а когда она, эта некомпетентность, начнет нагло вылезать изо всех дыр, быстро и элегантно сбежать, оставив с чувством вины тех, кто «довел» бедную Соню до увольнения, «выжил» от зависти к ее уму и красоте.
Устроившись на работу, Соня начинала наблюдать за коллегами. Ее забавляло их серьезное, озабоченное, где-то даже обожествляемое отношение к карьерному росту, правилам иерархической подчиненности, борьбе за копеечное повышение зарплаты, за соблюдение дисциплины труда. Причем чем незначительнее была фирма, тем более строгими были требования к этой самой пресловутой дисциплине. Что-то изменится, если она сядет за свой рабочий стол на полчаса позже? И неужели действительно так важно называться, например, руководителем направления, когда на самом деле никакого такого особенного и направления-то нет, а есть только выдуманное кем-то когда-то штатное расписание с такой должностью? Со всем этим она, конечно, легко справлялась, и была руководителем этого неизвестного направления, и давала кому-то какие-то ненужные важные задания, и очень легко косила за грамотного специалиста. В общем, честно играла свою роль, чувствуя себя звездой сцены в захудалом провинциальном театре.
И все время удивлялась, почему для нее это театр, а для ее коллег – настоящая жизнь с нешуточными интригами, с напряжением всех сил по преодолению трудностей, проявлением настоящих, честных и искренних эмоций от гордости по поводу результатов этого преодоления, выразившихся опять же в карьерном росте, святом соблюдении все той же пресловутой дисциплины труда и демонстрации других невероятных общечеловеческих достоинств на прямом и светлом пути к пенсионному возрасту.
Конечно, хватало ее ненадолго. Она уставала, начинала скучать по устроенному миру своего комфортного одиночества, где нет этой суетливой тревожности и кипучей бездеятельности и нет коллег по работе – любопытных доброжелателей, от недостатка информации желающих пошуровать в чужой жизни. С чувством выполненного долга Соня устраивала себе побег из неволи, и снова наслаждалась свободой, внешней и внутренней, и была счастлива, как умела.
И что теперь? Как ей жить? Как растить Машку? Что делать с Сашкой?
От тревожных вопросов болела голова, от сигаретного дыма тошнило, в глаза лезли немытая посуда, переполненная окурками пепельница. Даже синие сумерки за окном казались вязкими, тягучими: не день и не ночь, а серая тяжелая неопределенность. Надо было вставать с кухонного диванчика и как-то продолжать жить дальше. «Завтра накуплю кучу газет, буду искать работу, – решала Соня. – Хотя попробуй ее найди сейчас, эту работу, в сорок-то пять лет! Где и кто меня ждет? Друзей нет, и по блату не устроишься... Милой улыбкой и стильными очочками теперь уж никого не обманешь, времена не те. За окном уже давно проклятый капитализм с его жестокой потогонной системой, которая на твое обаяние и интеллект плевать хотела, ей конкретные знания с волчьей хваткой в комплекте подавай. Слава Богу, Мишка через два месяца оканчивает институт, она-то быстро работу найдет, с красным дипломом ее с руками оторвут. Ничего, справимся! А где она, кстати? Нашла время гулять...»
Словно услышав ее грустные мысли, Мишка тут же открыла своим ключом дверь, зашла в прихожую, шурша пакетами, из которых пошел по всей квартире плотный, сдобно-горячий ванильный дух.
– Ты чего так поздно?
Соня вышла в коридор, приняла пакеты, понесла на кухню.
– Мне тетя Надя халтуру нашла небольшую. У них в кафе бухгалтер уволился, надо первичку разобрать, пока они нового не нашли. Это на три-четыре дня, не больше. Они заплатят. Вот, выпечки свежей сегодня дали...
Соня удивилась: «Надо же... А Надька мне ничего не сказала. Ай да Мишка, ай да сукина дочь! Да с такой дочерью разве пропадешь?» Мишка с ходу полезла открывать форточку, потом принялась мыть посуду, доставать что-то из холодильника, чистить картошку. Все спорилось у нее в руках, выходило ловко и быстро, без лишней суеты.
– Ты знаешь, у нас за детский сад уже за два месяца оплата пропущена. Отец что, забыл? Кругом одни проблемы, и с Сашкой тоже... Что вообще происходит, Миш, я не понимаю!
– Мам, а как ты думаешь, может, Сашка этим своим стриптизом тебя просто пугает? Это же не может быть серьезным решением, она хоть и взбалмошная, но не глупая же...
– Так поговори с ней! Ты ж знаешь, я для нее не авторитет, а всего лишь раздражающий фактор.
– По-моему, она даже уже бумагу какую-то подписала. Я попробую ее отговорить, конечно... Но это все равно что небо отговаривать дождь проливать! Пока она сама свой собственный лоб не прошибет...
– Слушай, в кого она у нас такая? Я всю жизнь боюсь ей слово сказать, а иногда кажется, что она меня просто ненавидит. Откуда в ней это?
Переключившись со своих проблем на Сашкины, Соня долго и пространно рассуждала о причудах ее стервозного характера, о генетике, евгенике, о проблемах педагогики, о человеческой природе вообще. И даже не заметила, что в кухне стало чисто, проветрено и перед ней уже стоит тарелка с овощным супом, ее любимым, с цветной капустой и зеленой стручковой фасолью.
– Я за Машкой схожу к тете Наде, поздно уже. Ей спать пора.
Мишель привела от соседей недовольную Машку, под продолжение Сониных философских экзерсисов они поужинали чем Бог послал.
Мишка слушала Соню вполуха, думая о пустом холодильнике, о том, что завтра опять придется пропустить консультацию в институте, о неначатой дипломной работе, об отце, о Димке... Машка сидела за столом тихая, вялая, внимательно смотрела в свою тарелку.
– Что, с Лизкой поссорились? И почему ты без колготок? Опять ноги промочила?
Мишель озабоченно потрогала ее лоб. Обхватив ласково девочку за подбородок и повернув к себе, заглянула в глаза.
– Мам, мне кажется, у нее лоб горячий... Как бы не разболелась завтра.
Потом она долго укладывала ее спать, мерила температуру, которая действительно была опасно предпростудной, кипятила молоко, читала любимую книжку про Робинзона Крузо, успевая подумать о том, что надо бы постирать ее комбинезон и просушить на батарее ботинки, и что почему-то не позвонил Димка, и где бы еще раздобыть денег, чтобы купить хоть каких-то продуктов. Наконец Машка уснула, разметав свои рыжие волосы по подушке, с трудом втягивая носиком воздух.
Мишель вышла на кухню, где Соня опять курила, сидя на том же месте в своей излюбленной позе.
– Простудилась все-таки. Нос не дышит. Завтра суббота, не пускай ее гулять, пусть дома посидит. Я утром рано опять уйду в кафе, вернусь поздно. Мам, мне Димка не звонил?
– Да что твой Димка... Сашки вот до сих пор нет, хоть бы позвонила, засранка такая! Знает ведь, что я нервничаю! Что это за репетиции ночные? Как хоть этот клуб называется, ты знаешь? А если в школе узнают? Ее ж могут к экзаменам не допустить!
Соня распалялась все больше, вымещая на строптивой дочери свое горе, понимая при этом, насколько бессильна что-то изменить, что и поругать-то ее она может только в ее отсутствие, и от этого горе ее казалось ей еще более горьким, а будущее – еще безысходнее.
Сашку они прождали до двух часов ночи, замирая от каждого шороха шагов на лестничной клетке, прислушиваясь к шуму понимающегося лифта. Когда наконец лифт остановился именно на их этаже и торопливые каблучки процокали по направлению к двери, от сердца у обеих отлегло.
– А почему вы не спите? Меня, что ли, ждете? Так я ж записку писала! Или об отце какие-то новости есть?
Сашка уселась за стол, налила себе чаю, жадно вцепилась зубами в булочку. От нее шла волна такого радостного возбуждения и довольства, что Соня поневоле позавидовала, но тут же мысленно себя и одернула. Переглянулась с Мишелью, ища в ее глазах поддержку, и заговорила первая, как ей казалось, спокойно и насмешливо:
– Сашк, а как хоть твой клуб называется, можно узнать?
– Можно. Отчего ж нельзя. «Формула страсти» он называется.
– Как?!
– «Формула страсти»!
– О Боже... Сашенька, давай вместе спокойно подумаем, все ли правильно ты делаешь? Ты ведь умная девочка, ты понимаешь, что жизнь нельзя заполнить только одним праздником, надо ведь еще как-то в чем-то суметь самовыразиться...
– Так я и самовыражаюсь... – Сашка удивленно уставилась на мать, округлив красиво подведенные глаза. – Ты ж сама говорила, что в каждом человеке есть что-то такое, что он умеет делать лучше других, и что он должен определить это что-то, а потом реализовать его на полную катушку! Я следую твоим советам, моя мудрая мамочка! Только и всего! – Сашка говорила весело и возбужденно, без обычного своего сарказма, с удовольствием откусывая от булочки, сверкая красивыми ровными зубами. – Вы знаете, мне сегодня начали ставить танец, так вот, постановщик сказал, что меня не надо ничему учить, чтобы не испортить. Я талантлива, понимаете? Мне нравится танцевать стриптиз, из меня под музыку прямо прет что-то такое, чем моя голова не управляет... Я именно так самовыражаюсь, мама! Я испытываю удовольствие! А за удовольствие, оказывается, еще и деньги платят...
И не маленькие!
– Сашенька, но есть ведь еще и обратная сторона этого удовольствия! Что такое стриптиз по сути? Это когда женщина раздевается перед толпой?
– Мам, тебе хочется меня обидеть, да? Унизить? Тебя обидели, и тебе тоже хочется? Это в тебе злость на отца говорит, сама ты так не считаешь! Ты ж у нас продвинутая, ты не можешь рассуждать, как тетка с рынка! Любой талантливо исполненный танец – это уже искусство! И любое искусство можно опошлить! Но пусть это делает тетка с рынка, а не ты, моя мать!
– Да как ты не понимаешь, что на тебя все будут смотреть как на шлюху, что никому ничего не докажешь! Тебя ж засмеют! А обо мне ты подумала? Мало мне, что я теперь для всех мадам Брошкина, так у меня еще и дочь-стриптизерша!
– Ах во-о-от в чем дело...
Сашка откинулась на спинку диванчика, зло сузила глаза. От прежнего радужного настроения не осталось и следа.
– Значит, я своим поведением обязана создавать тебе красивый фон? Вот в этом вся ты и есть, мамочка... Не любишь ты никого! Ни отца, ни Мишку, ни даже Машку. О себе я вообще не говорю! Ты даже услышать меня не хочешь! А может, и хочешь, да не можешь, потому что не любишь!
Соня ошарашенно замолчала, как будто ее ударили. Да как она смеет! Хотелось заплакать, но слезы куда-то исчезли, вместо них пришли злая обида и раздражение на дочь: матери плохо, а она тут со своими обвинениями... Соня с отчаянием посмотрела на Мишель, ища защиты. Сашка, словно угадав ее мысли, торопливо продолжала выстреливать словами, как пулеметной смертельной очередью:
– Ты вечно только рассуждаешь о любви, вычитаешь из книг и повторяешь чужие мысли, как попугай, а сама не любишь никого! Ты всех используешь, как можешь, а любить не научилась! И правильно тебя отец бросил! Ему с этой крестьянкой Элей лучше будет, она хоть любит его! Я тоже от тебя уйду! И Машку заберу с собой, пока ты ее не искалечила!
– Замолчи! Не смей так с мамой разговаривать! За себя говори, за меня не надо!
Мишель встала, загораживая своей широкой спиной съежившуюся в углу диванчика уже навзрыд плачущую Соню.
– Я вообще больше с вами не собираюсь разговаривать!
Сашка выскочила из кухни, в дверях столкнувшись с заспанной испуганной Машкой. Щечки ее горели, рыжие волосы растрепались, в глазах застыли и переливались искорками слезы. Мишель бросилась к ней, схватила на руки, понесла обратно в постель, бормоча что-то ласково-беспорядочное про босые ножки, холодный пол, температурку...
– Миш, я к папе хочу... Давай уйдем к нему жить! А кто это – крестьянка Эля? Я не хочу с Сашкой! Я к папе хочу! Отведи меня к папе завтра, ладно?
Мишка долго лежала рядом с сестренкой, гладила по голове, царапала спинку. Обещала, что папа скоро придет, что они больше не будут ругаться и что все будет хорошо, что надо просто поспать, и завтра все-все будет по-другому...
ДИМКА
Он должен что-то придумать. Он обязательно должен что-то придумать! Это только кажется, что время еще есть, к сожалению, оно работает не на него. Ему нельзя уезжать без Мишки. И никаких ее «потом» и «попозже» не принимать. «Потом» просто не будет. Мать ее от себя не отпустит никогда.
Странная все-таки женщина, эта Мишкина мать... Не от мира сего. Марсианка-манипуляторша. Смотрит своими близорукими глазами, как будто все время помощи просит. Эдакая наивная провокация: видите, какая я маленькая, худенькая, слабенькая, такая беззащитная вся... Он как-то спросил ее, почему она не носит очков при такой сильной близорукости, и она, снисходительно улыбаясь, объяснила, что вещи, не имеющие четких границ, кажутся ей более доступными, мир становится более красивым, расплывчатым и струящимся, что без очков не видно грязи и злобных людских взглядов... Что ж, надо признать, в этом что-то есть.
Поделиться11Вторник, 5 февраля 00:13
Но лично он предпочитает видеть мир в его многообразии, со всем его хорошим и плохим. И вообще, не так уж он и плох, этот мир, чтоб отгораживаться от него своей слепотой, чтобы прятаться от него, манипулируя своими близкими! А в том, что многоуважаемая Софья Михайловна удачно манипулирует своей старшей дочерью, Димка был стопроцентно уверен. Ему было жаль Мишку. Он привык к ней. Она надежная, добрая и спокойная, умная и рассудительная, верная и преданная подруга, понимающая его с полуслова. Далеко не красавица, и слава Богу. Он с детства не любил красивых девчонок. Не понимал, как можно любить просто за красоту. А жить как? И вообще, красота – это всего лишь отвлекающий от самой личности фактор, человек гораздо больше и объемнее, чем его внешняя оболочка. Не раз он наблюдал, как его однокурсницы, умные и интересные девчонки, начинали озабоченно худеть, сантиметрами обмеряли друг у друга талии, бесконечно подсчитывали калории и килограммы, ходили вялые, с голодными несчастными глазами, уходили в это стремление к похуданию, как в секту... Он будет любить Мишку любую, даже если она будет весить сто килограммов! Всю жизнь. В горе и в радости. Так же, как его отец любит его мать.
Они совсем простые люди, его родители. Много лет строили себе большой и просторный дом, с любовью и интересом, успев за это время родить троих детей.
В семье он был самым младшим, «поскребышем», как говорила мать. Вместе с братом и сестрой рос в ненавязчивой родительской любви, как в теплом коконе. По весне все они дружно выходили в сад на полевые работы, дружно садились за стол с простой и сытной едой, парились в бане с веником, с холодным квасом, жарили шашлыки, иногда баловались и пивком. И никогда не оценивали свою жизнь с точки зрения правильности или значительности, все дружили и берегли друг друга, и все у них, у детей, получалось как бы само собой, как продолжение их счастливого семейного бытия.
В Мишкиной же семье все ему казалось странным, неправильным, весь их жизненный уклад. Здесь все было устроено относительно привычек Софьи Михайловны, каким-то непонятным образом они все жили не рядом, не вместе, а вокруг нее. Ходили цугом, как цирковые лошади по арене, а она, как слепой укротитель, даже без помощи кнута и пряника спокойно управляла ими, оставаясь одновременно и в одиночестве, и в центре внимания. Из общего строя выделялась только Мишкина сестра, Сашка. Красивая девчонка. Очень сексапильная. И злая. Видимо, природа решила в данном случае схалтурить, не делить все поровну, и одной сестре отдала всю красоту, а другой – доброту и душевность...
И вообще, какое ему до них дело, в конце концов? Ему надо вырвать от них Мишку, увезти с собой в Мариуполь. Он не хотел уезжать без нее, и все тут.
И давить на нее нельзя. Что ж, придется звать на помощь отца с матерью. А что?
Пусть приезжают. Они завалятся к Веселовым просить руки их дочери, такие простые, провинциальные, про их странный уклад ничего не знающие...
И пусть попробует уважаемая Софья Михайловна им отказать! Или не звать родителей, самому к ней заявиться, так сказать, женихом, с цветами и тортом? Он подумает. И обязательно что-нибудь придумает...
СОНЯ
Уже долго звонил телефон. Вставать не хотелось. Она лежала, слушала навязчиво-требовательные, даже какие-то хамские телефонные звонки, гадала, кто может так настойчиво звонить таким ранним утром. Оно, конечно, было не такое уж и раннее, но если учесть, что она легла спать в три часа ночи, да часа два еще плакала в подушку... А вдруг это Игорь? Вдруг он одумался и решил вернуться? Соня подскочила как ужаленная, схватила телефонную трубку. Нет. Не Игорь. Зря вставала... Звонил Дима, Мишкин приятель. Хороший, конечно, мальчик, но зачем будить-то в такую рань?
– Доброе утро, Софья Михайловна.
– Здравствуй, Димочка.
А Мишели нет дома, она только вечером придет...
– Да, я знаю. Я, собственно, с вами хотел поговорить, Софья Михайловна! Даже не знаю, как сказать... Вы ведь в курсе, что мы решили пожениться? Мишель вам говорила?
Соня оторопела. Как пожениться? Зачем? Как-то она вообще Мишкиного мальчика с этой стороны не рассматривала... И что нужно говорить в таких случаях?
– Нет, Дима, она мне ничего не говорила, я впервые об этом слышу. Погоди, ты же собирался домой уезжать? Или передумал?
– Нет, не передумал. Мы же с Мишкой одновременно дипломы получаем, вот вместе и уедем ко мне домой. Там и свадьбу сыграем. Мои родители на днях сюда приезжают, хотят с вами познакомиться. Все обговорить... Ну там, насчет свадьбы и все такое прочее... Так мы к вам придем, Софья Михайловна? Вы не возражаете?
– Да, Дима, конечно, приходите. Только я не готова все это серьезно обсуждать, у нас тут семейные проблемы...
– Спасибо, Софья Михайловна. Мы придем. До свидания.
Соня положила трубку, села в кресло. Что ж это такое? Мишка уедет, бросит ее здесь одну? С Сашкой? Со всеми проблемами? Да нет, она не сможет, она не такая...
И сразу в ушах рефреном зазвучал Сашкин обвиняющий голос: «...Ты не любишь никого! Ты всех используешь, как можешь, а любить не научилась...»
Снова зазвонил телефон. Соня вздрогнула. Господи, чего еще от нее хотят?
С опаской взяла трубку. На сей раз звонила Сашка. Голос ее звучал веселой легкой скороговоркой, как будто и не было никакой их ночной ссоры.
– Мам, если ты сердишься, то извини, конечно, только у меня к тебе огромная просьба. Майя очень сильно заболела, может, ты съездишь к ней? Надо лекарства купить, жаропонижающее и еще какое-нибудь, я не знаю. Может, ей надо «скорую» вызвать. Я ну никак не смогу, у меня целый день занят. И продуктов купи каких-нибудь, хлеба, молока... Запиши адрес!
Соня послушно записала адрес, не сопротивляясь и не возражая, как робот, принявший программную установку. Надо умыться, собраться, покормить Машку и поехать. Совершать какие-то действия. Просто выйти на улицу, наконец!
Машка спала крепко, будить ее совсем не хотелось. «Она же простыла, – вспомнила Соня. – Мишка вчера сказала, чтоб она дома посидела... Придется ее одну оставить. И Нади с Лизкой как назло нет, они на выходные в деревню к родственникам уехали».
– Машенька, проснись на минутку. Я ненадолго уйду, а ты поспи еще. Там на столе булочки есть и молоко. Поешь, когда встанешь. Никому не открывай.
Машка что-то промычала, перевернулась на другой бок, снова заснула. Соня тихо закрыла дверь, вышла из дома. Судя по записанному на бумажке адресу, ехать ей предстояло долго, на другой конец города, с двумя пересадками.
Общественный транспорт Соня терпеть не могла. Всегда или ходила пешком, или просила отвезти Игоря. В автобусах и трамваях толкались злые люди, одетые в дешевые пуховики, грубые джинсовые подделки и кожзаменитель, но с непременным атрибутом своей сопричастности к цивилизации – сотовым телефоном, переливчатые трели которого, и диалоги в переполненном молчаливом автобусе воспринимались как-то странно, хотя и звучали всегда примерно одинаково: «Да. В автобусе еду. А че? А ты где? А-а-а... Ну ладно». В их семье сотовый был только у Сашки. Соня искренне считала, что потребности в этой штуке больше ни у кого нет, и в статью расходов не включала. А зря. Можно было бы позвонить Игорю по горячим следам, напомнить о себе, пристыдить, заставить вернуться на место... «Не любишь ты никого! И правильно, что от тебя отец ушел!» – опять настойчиво зазвучал в голове Сашкин злой голос. «Засранка такая! Будет меня любви и дружбе учить!» – возмущенно отмахнулась Соня.
Надо было уже как-то пробираться к выходу через плотно стоящие людские тела с каменными лицами, готовыми в любой момент взорваться хамством, только тронь... «А скоро придется так вот каждое утро ездить», – с тоской подумала Соня, относительно благополучно добравшись до открывшихся дверей и выйдя наконец на свежий воздух.
Она долго нажимала на кнопку звонка с Майиной фамилией сбоку, стояла, ждала перед деревянной двустворчатой дверью, снова нажимала на кнопку звонка... Никто не открывал. Соня совсем уже собралась уйти, когда дверь неожиданно открыла Майя. Выглядела она действительно не очень хорошо, а точнее, даже очень нехорошо: натянутая на скулах смуглая сухая кожа горела болезненным кирпичным румянцем, глаза были красными, воспаленными и злыми. «Щелкунчик, – вспомнила Соня ее театральное прозвище. – Настоящий Щелкунчик. Только больной очень».
Майя, кутаясь в огромный махровый халат, вопросительно и недовольно смотрела на Соню, молчала.
– Майя, вы меня не узнали? Я Соня, мама Саши Веселовой... Она просила к вам приехать, помочь... В аптеку сходить или в магазин...
– Я вас узнала, Соня. Здравствуйте. Вообще-то мне ничего не нужно. Спасибо, конечно... У меня обычная простуда, правда, сильная очень. Иногда и вовсе выпадаю куда-то, температура высокая, за сорок... Но раз уж приехали, проходите.
Переступив порог, Соня, удивленно озираясь, начала снимать с себя курточку. От Сашки она слышала, что Майя живет в коммуналке. О коммунальных квартирах Соня имела весьма смутное, скорее книжное представление: это должно быть что-то убогое, вроде «вороньей слободки», с заставленным сундуками и корзинами длинным темным коридором, с запахами квашеной капусты и хозяйственного мыла, с любопытными, выглядывающими дружно из своих комнат толстыми соседками в папильотках. Коридор в этой квартире оказался действительно огромным, но в отличие от ее книжных стереотипов квадратным, похожим скорее на большой уютный холл, чистым и светлым, с красивой лепниной на потолке, со старинной, с висюльками, люстрой, с большим ярким ковром посередине. Оставшись без своих высоких каблуков и ступив на его мягкий ворс, Соня сразу же представила себя маленькой барышней, пришедшей домой с прогулки: «Надо же, дежа-вю... Вот сейчас из этих больших двустворчатых дверей выйдет гувернантка, позовет пить чай с булочками...»
Майя, приглашающим жестом показав ей как раз на эту самую дверь, провела Соню в свою комнату. Она тоже была огромной, с такой же величавой лепниной, с большими арочными окнами и необыкновенной старинной мебелью. Соня застыла на пороге, удивленно осматриваясь. Солнечные лучи красиво падали на темный благородного дерева паркет, играли цветными сполохами в витраже пузатого буфета, тяжелые малиновые портьеры с золотыми кистями с достоинством обрамляли окна. Посреди комнаты под абажуром стоял большой круглый стол, покрытый вязаной скатертью, кисти бахромы которой, словно длинные дамские пальцы в белых перчатках, элегантно дотрагивались до самого пола.
«Как здесь хорошо, – подумалось Соне. – Наверное, в предыдущей жизни я жила именно в такой обстановке...»
– Простите, я прилягу, – вернул ее в действительность Майин простуженный голос. – Голова очень кружится. А вы сделайте себе кофе, там на столике все есть...
– А чем вы лечитесь? Давайте я и в самом деле в аптеку схожу. Или сварю поесть чего-нибудь горячего. Вы только скажите, где у вас что лежит. А может, в магазин нужно сходить?
– Нет, спасибо, Соня, мне ничего не нужно...
Майя легла на широкий низкий диван, укрывшись толстым клетчатым пледом. Медленно и с трудом поднимала и опускала веки, словно больная птица. Было видно, что ей очень хочется спать, и, если бы не Соня, она тут же провалилась бы в свой болезненный температурный обморок.
Соня почувствовала себя очень неловко.
Действительно, что она тут делает? Может, извиниться и уйти? Так надо было сразу, не раздеваясь и не заходя в комнату... Или все-таки настоять на своем, пойти на кухню и что-то приготовить? Нет, не умеет, ну решительно она не умеет выходить из таких положений. И зачем приперлась в такую даль, зачем опять пошла на поводу у Сашки?
Майя, словно услышав ее внутренние терзания, зашевелилась, пытаясь сесть, подложила под спину огромную диванную подушку.
– Раз уж вы здесь, Соня, давайте поговорим. Вам хочется посоветоваться насчет Саши? Ведь так?
Соня быстро устроилась напротив Майи на маленькой банкетке, подогнув, как обычно, ногу под себя.
– Да, конечно, хотелось бы...
Соня лукавила. Вовсе не хотелось ей разговаривать. Боялась она ее, Майю, боялась ее презрения, ее вежливой и снисходительной неприязни, которую почувствовала на себе еще тогда, несколько лет назад, когда впервые привела маленькую Сашку на занятия. И трогательное отношение Сашки к своей преподавательнице всегда ей было неприятно. Соня не ревновала дочь к Майе. Ей даже было удобно, что шумная, капризная Сашка, с которой она никак не могла справиться, постоянно находится под чьим-то любящим присмотром. Нет, не ревность ее мучила, а раздражение на то, что обе они, и Сашка, и Майя, сами того не желая, своей трогательной дружбой все время посягали на ее, Сонин, многоуважаемый материнский статус. В конце концов, это она – мать! А Сашка, как тут ни крути, – ее дочь! А Майя ей просто завидует... А как же? Соня замужем, а Майя – нет! У Сони трое детей, а у Майи – ни одного! Соня – красавица, а Майя – так себе, Щелкунчик...
Но не объяснишь же этого всего Майе, которая сидит напротив нее, смотрит выжидающе, ждет, когда ж она начнет с ней, с чужим человеком, советоваться насчет своей собственной дочери! А советоваться-то придется, куда ж денешься...
– Сашка вам говорила, что подписала контракт на работу стриптизершей в ночном клубе?
– Да, говорила. Я понимаю, что вы, Соня, пребываете в шоке от этого известия. Ведь так? И у меня поначалу была точно такая же реакция.
– А сейчас что? Вы успокоились? Пусть девчонка спокойно учится раздеваться на публике? Перед похотливыми старыми мужиками?
– Нет, Соня, я не успокоилась. Просто я очень хорошо знаю Сашу. Она должна пройти именно той дорогой, которую видит. Пусть это будет плохая и опасная дорога, но она все равно пройдет ее до конца. Она такая, и все тут. И запрещать ей что-то просто бесполезно. Она будет всегда сама принимать решения, сама будет разочаровываться и никогда никого на свою дорогу не пустит. Разве что мужчину, так это дай Бог... Она у меня вызывает уважение, эта девочка.
– Ну да, а попутно, пока идет по этой своей трудной дороге, она будет сносить наши головы, топтать наше самолюбие? Эгоистка! Ведь даже не интересуется моим мнением! Не думает, что для меня, ее матери, это позор, настоящий позор!
Соня чувствовала, как закипают слезы в глазах, сдерживалась из последних сил. Ей совсем не хотелось плакать при Майе, показывать свое бессилие, раздражение, ведь она же все-таки жена-мать-умница-красавица, а Майя – никто... Никто!
– А я всегда считала, что позор для матери – это неумение понимать и принимать своих детей такими, какие они есть...
– Потому что у вас своих нет!
Соня осеклась на полуслове. «Господи, да что это со мной? Вот она сейчас обидится...» Она с ужасом смотрела на Майю, сильно прижав ко рту ладонь, как будто та собиралась по меньшей мере или ударить ее, или выгнать вон.
– Я не обиделась, Соня, не беспокойтесь. Я вообще не умею обижаться. А насчет Сашкиного эгоизма... Знаете, как педагоги говорят? Если ты в гневе показываешь пальцем на своего ребенка, обвиняя его во всех смертных грехах, то разверни палец на себя и подумай...
– То есть эгоистка – это я? Но я же ничего плохого никому не делаю, живу и живу, тихо радуюсь жизни, ни на кого не нападаю, никого не позорю, ничего ни от кого не требую...
– И ничего никому и не даете. Вы любить не умеете, Соня. Никого. И своих детей тоже... Да, действительно, у меня нет своих детей. А любить их я умею и за себя, и за таких, как вы... И мужа у меня нет. Потому что любимый не встретился, а создавать механически социальную ячейку общества, чтоб быть как все, я уж точно не смогу.
«И эта туда же – любить не умеете... – с тоской подумала Соня. – Я ведь и обидеться могу. Вот сейчас встану и уйду отсюда!» Но вместо этого вдруг грустно произнесла:
– Мужа теперь и у меня нет, Майя. Наверное, тоже не захотел больше механически создавать социальную ячейку...
И опять она не сдержалась, как тогда, у Нади. Господи, ну сколько можно плакать? И остановиться невозможно. Из-за слез она не видела выражения лица Майи, было неловко и стыдно плакать именно здесь, именно перед этой женщиной, ведь она никто, никто... «Сижу тут перед ней, на жалкой какой-то банкетке, оправдываюсь, извиняюсь, как девочка маленькая... Зачем я ей про Игоря-то сказала?»
Майя сидела молча, не подавая признаков жизни, ждала, видимо, когда она успокоится. Наконец Соня, оторвав руки от лица, вытирая со щек слезы, посмотрела ей в глаза. Надиной радости она в них не увидела точно. Зато увидела сочувствие, натуральное, неподдельное, искреннее, без примеси бабской обманчивой жалости.
– Соня, вы очень боитесь одиночества? Или так сильно любите мужа?
Соня глубоко вздохнула, успокаиваясь, распрямила затекшую ногу. Майя смотрела доброжелательно, приглашая к разговору.
– Да нет, Майя, одиночества как такового я не боюсь. Я очень люблю одиночество. Меня иногда даже пугает, что мне никто не нужен. Мне самой себя настолько хватает, что я часто избегаю общения. А Игорь... Моему одиночеству нужна защита, понимаете? Я так устроила свою жизнь, чтобы никому особо не досаждать, но только чтобы и меня оставили в покое... Знаете, мне Сашка вчера сказала, что я прожила до сорока пяти лет в стеклянном домике, который сама себе построила, а у дверей поставила надежную охрану. Похоже, она попала в точку. Только он взял и рассыпался в один момент... А вам бывает одиноко, Майя?
– Да, иногда бывает. Я не сказала бы, что люблю одиночество, как вы. Просто я философски к нему отношусь. Есть люди, которые сознательно ищут одиночества, другие в панике бегут от него, а третьи и сами не знают, чего хотят... Я же просто дружу со своим одиночеством, нам хорошо вместе. Разговор сейчас не обо мне, Соня. У меня есть выбор, понимаете? Я могу сознательно выбирать одиночество, а могу не выбирать. А вот у вас выбора нет. Присутствие в вашей жизни детей уже не дает вам такого выбора! И с Сашей у вас проблемы из-за того, что вместо безусловной материнской любви вы предпочли свое комфортное одиночество.
– Да, наверное, я плохая мать. Но вы бы послушали, как она мне хамит!
– Она любит вас, Соня. Просто ее любовь разбивается о стены вашего стеклянного домика, если уж следовать этим ее странным метафорам. Она-то ведь другая, не такая, как вы. И ей нужно ваше материнское общение, эмоции, уважение. Ее поведение – протест против вашего равнодушия. Неужели вы этого не поняли, Соня?
– С моей старшей дочерью почему-то таких проблем нет. Она тихая, спокойная девушка...
– Я помню вашу дочку. Вы знаете, тут не надо быть психологом: у Мишели все ее комплексы на лбу написаны. Она полностью вами подавлена, опять же вашим равнодушием, только она все еще надеется, что завтра вы ее полюбите... Я очень давно работаю с детьми, и поверьте мне, недолюбленного ребенка видно сразу.
Поделиться12Вторник, 5 февраля 00:16
Только не надо плакать, прошу вас! Я же помочь вам хочу!
Майя, заметив, как подозрительно задрожали у Сони губы, откинула плед, села на край дивана. «А она красивая...» – вдруг отстраненно подумала Соня.
Всплеск эмоций превратил сидящего перед ней Щелкунчика в живую яркую женщину с необыкновенно красивым разрезом блестящих карих глаз. «Где-то я Сашку теперь понимаю...»
– Не обижайтесь на меня, Соня. Обещайте подумать об этом. Покопайтесь в себе, мне кажется, что вы очень хорошо это умеете делать. Получше и поглубже. Я почему-то в вас верю... Что вы на меня так смотрите?
– Майя, может, мы на ты перейдем? – неожиданно для самой себя спросила Соня.
– Давай...
Они сидели, смотрели друг на друга. Соне вдруг стало весело. Две странные женщины в странном жилище. Такие разные и такие похожие. То ли от пролитых слез, то ли от исходящей от Майи веселой искренней доброжелательности стало легче, прошла противная внутренняя дрожь, не отпускавшая ее с того самого Игорева звонка, когда вся ее устроенная годами жизнь начала рассыпаться на мелкие осколки.
– Тогда ты, может, все-таки сходишь в аптеку и в магазин? – весело предложила Майя. – Чего, зря приперлась в такую даль, что ли?
ЭЛЯ
Борщ у нее получился отменный, по всем правилам, со шкварками, тушеными овощами и чесноком, с плавающим сверху слоем свиного жира в крапинках мелко нарезанной петрушки. Такой борщ варила ее мама. Из своего детства Эля отчетливо помнила и вкус борща, и мамины пироги, и ее всегда теплые ласковые руки. И еще помнила ее голос, всегда ей что-то приговаривающий: золотая рыбонька, дитенок, бусинка, ягодка, Люлечка...
Умерла мама рано, Эля еще и в школу не ходила. Об отце своем она вообще ничего не знала: умер ли, жив ли, и кто он вообще такой... В свидетельстве о ее рождении в графе «отец» стоял аккуратненький такой стыдливый маленький прочерк. Элю забрала к себе на воспитание тетка, мамина двоюродная сестра, женщина уже немолодая, вдовая и бездетная. Растила в строгости, боясь избаловать жалостью к ее сиротству, но и любовью не обделяла, привязалась к девочке всем сердцем. «Утешение мое на старости лет», – часто говаривала тетя Тоня, гладя ее по белобрысой голове. Жили они в большом доме на берегу реки, в леспромхозовском поселке, вели хозяйство, держали огород. Проблем особых тетке Эля не доставляла, училась хорошо. После школы без труда поступила в институт в городе, пообещав после получения диплома непременно вернуться домой, чтобы «покоить теткину старость». Та и в самом деле уже с трудом справлялась с большим хозяйством, с нетерпением поджидала и ее, и своего долгожданного покоя. Хотелось ей, конечно, и внуков понянчить, но на Элино замужество особо она не надеялась. Слишком уж неброской, неказистой была ее племянница. Наверное, вся в ее горемычную сестру, Элину маму, у которой, как говаривала тетка, отродясь и кавалера-то никакого не водилось. Как она ухитрилась еще и Элю родить – одному Богу известно...
А вот с борщом она опоздала, не успела накормить Игоря. Полчаса назад забежал, обнял прямо в дверях, сказал, что его не будет два или три дня, потому как неожиданно подвернулась очень выгодная халтура – перегнать чью-то машину в другой город. Деньги им были и правда очень нужны, съемная квартира стоила безумно дорого, но три дня – это так долго! Вот едет сейчас голодный, наверное. А она так старалась, варила для него этот борщ... И в институт не надо идти, сейчас у них идут только консультации, дипломная работа у нее уже написана, так, по мелочи кое-что еще осталось. Что она здесь будет делать без него? Надо же, прошло каких-то десять дней, а у нее такое чувство, будто они уже очень давно живут вместе, будто она всегда, всю свою жизнь варила ему борщ, стирала его рубашки...
А кстати, о рубашках. Она сейчас пойдет и позвонит из автомата домой к Игорю, попросит Мишку собрать его вещи и вынести ей.
Мишка же обещала... Если трубку возьмет Софья Михайловна, она не будет с ней разговаривать, конечно. Она ее боится до смерти, хотя и не виновата ни в чем. «Не виноватая я, он сам пришел!» – почему-то пришла на ум дурацкая фраза из старой комедии. Вот именно, что сам пришел... У нее в сердце скопилось к этому времени уже столько любви, что кто бы ни пришел – приняла бы за настоящее счастье. А что, разве не счастье дарить себя кому-то, отдавать всю без остатка?
Глупые красивые женщины! Вы так старательно суетитесь вокруг своей красоты, что не замечаете главного: счастье проходит мимо вас! Вы оставляете его по крупицам в беготне по магазинам за новыми яркими тряпочками, в косметических салонах, в парикмахерских, в чужих постелях ради подтверждения действенности своих женских чар... А женское счастье – штука капризная и обидчивая. Если не увидишь его целостно, разменяешь поштучно – уйдет безжалостно и имени твоего не спросит. Сколько таких – ухоженных, подстриженных, красиво одетых, вроде бы и самоутвердившихся – и глубоко несчастных...
«Вот получу диплом, и мы уедем к тетке, в наш большой дом... – мечтала Эля, пробуя уже готовый борщ. – Я пойду работать в леспромхоз, бухгалтеры и экономисты там всегда нужны, а Игорь пусть отдохнет, поживет на воле, на свежем воздухе, на парном молоке... В огороде пусть копается, сарай поправит, крышу починит. Я вечером буду приходить с работы, готовить для него вкусную еду. А потом будем пить чай с пирогами на веранде с видом на лес и речку. Хорошо...»
С этими мыслями Эля быстренько собралась, вышла на улицу, набрала номер из телефона-автомата. Ей ответил хрипловатый девчачий голосок, сообщивший, что Мишель нет, мама уехала уже давно, а дома одной страшно и что даже Лизки с тетей Надей дома нет...
– А вы, тетя, кто?
– Я? Я Эля... Мы с Мишей в одной группе учимся...
– А вы крестьянка?
Эля растерялась. Почему она крестьянка? Ну да, наверное, крестьянка. Она ж в город действительно из деревни приехала, значит – крестьянка...
– Ты ведь Маша, да? А ты не знаешь, Маша, Мишель когда придет?
– Нет, не знаю... Я ж говорю, уже давно никого дома нет! Я одна, и мне страшно! Отведите меня к папе, пожалуйста!
– А его нет, он уехал...
– Ну так я его подожду у вас! Можно? Ну пожалуйста, мне страшно одной! Я к папе хочу!
– Машенька, тебя же потеряют!
– А никого не будет еще долго, все уехали...
Эля растерялась. Как это – уехали? И правда, Мишки в институте не было ни вчера, ни позавчера, а ведь у них были консультации... Когда она ее последний раз видела? Ну да, третьего дня, когда привела ее на бульвар на встречу с Игорем...
– Ну хорошо, Машенька... А ты сможешь записку написать, чтоб тебя не потеряли?
– Да, я напишу, я умею печатными буквами! Нас в садике учили!
– Я сейчас подъеду, позвоню тебе. Там около вашего подъезда автомат есть, я видела. А ты дверь закрыть сумеешь?
– А у нас захлопывается! А ключи у мамы есть. И у Миши, и у Саши...
Эля положила трубку, быстро пошла в сторону автобусной остановки. Ребенок там один! Кто его знает, что могло случиться? Пусть у нее пока побудет... И Игорь как назло в отъезде! Все-таки зря она пожмотилась на сотовый телефон, надо было купить!
Она довольно быстро добралась до бывшего Игорева дома. У подъезда стояла девчушка в синем комбинезоне, в розовой шапке, из-под которой выглядывали яркие рыжие кудри, внимательно рассматривала прохожих.
– Ты Эля? – спросила ее девчонка.
– А ты Маша, да? Ну поедем, Маша, домой. Обедать будем... Ты борщ любишь?
СОНЯ
Она вышла от Майи уже затемно. Время пролетело совершенно незаметно. Пока Соня ходила в магазин и аптеку, варила крепкий бульон и овсяную кашу, Майя спала, свернувшись калачиком под своим клетчатым пледом.
Соседками Майи оказались милые интеллигентные старушки, которые, пока Соня готовила на кухне еду, с удовольствием отвечали на ее вопросы, рассказывали историю их необыкновенного старинного дома – бывшего особняка богатого мецената, варили для нее каким-то особенным способом кофе, очень крепкий и сладкий, на два голоса расхваливали Майю, «нашу изумительно талантливую, умную, спокойную, рассудительную девочку». Узнав, что Соня – Сашкина мать, удостоили похвалы и ее, потому что «у такой замечательной девочки может быть только замечательная мама». «Вот уж действительно, нет пророка в своем отечестве... – думала Соня, слушая, как хвалят старушки Сашку. – А приятно, черт возьми...»
Потом она кормила Майю бульоном и кашей, они снова пили кофе и говорили, говорили... Соне было почему-то очень хорошо здесь, в этой старинной коммуналке, исчезла тяжелая, как гранитная плита, тревожность последних дней, успокоилась и мучительная внутренняя дрожь. На душе было светло и чисто, как в церкви. И надо было давно по всем правилам приличия встать и уйти, но так не хотелось!
Уже стоя на остановке автобуса, она вспомнила, что так и не позвонила домой, не узнала, как там хозяйничает ее бедный простуженный ребенок, и обругала себя последними словами. Неужели в самом деле Майя права, и она не умеет любить своих детей? Вон идет ее автобус, она сейчас сядет к окошечку и посидит, подумает...
Да, пожалуй, Майя права, да и Сашка права. У Мишки всегда загнанные испуганные глаза, но это, наверное, от ее девичьих комплексов, она девочка некрасивая, крупная, всегда сутулится... Сашка вообще с рождения агрессивная, ей не любовь нужна, а сплошные ссоры и скандалы. Машка же просто общительная очень, хоть и маленькая еще, и ей интереснее с Лизкой, чем с матерью. Хотя если б она общалась с Лизкой не в Надиной квартире, а в Сониной, она б это общение, наверное, быстренько прекратила...
А сама она, Соня, разве долюбленный ребенок? Отец умер рано, она еще совсем маленькой была. От мамы она просто сбежала после школы, поступив в институт. Именно сбежала, потому что мама после смерти отца стала слишком претендовать на общение, слишком желала дочерней близости, участия, не оставляя ей ни минуты для самой себя. А иногда и просто требовала от нее конкретных проявлений любви, не столько ради самой этой любви, сколько для поселкового общественного мнения. «Соня, я прошу тебя, сходи сегодня со мной в кино! И держи под руку, и улыбайся мне, чтобы люди видели! Только надень что-нибудь новое, ради Бога, а не эти старые джинсы! Еще подумают, что я тебя плохо одеваю...» Может, она и уехала тогда от этой маминой любви-показухи? Не нужен ей был никакой институт, душа оставалась там, на окраине поселка, среди тишины, ветра, берез и огромной отцовской библиотеки. Уехала в город, спасаясь бегством, как загнанный заяц, подальше от матери, чтоб уже ни за что и никогда не вернуться. Остаться на любых условиях, хоть за что-нибудь зацепившись. За замужество, например. И на маминых похоронах она совсем не плакала. Могла навзрыд плакать над книжкой, а на похоронах – нет... Не любила она маму, чего уж греха таить, но детей своих она любит, любит! Как она переживала за Мишку, когда та поступала в институт! Конкурс был бешеным, и наняли репетитора, и платили ему огромные для семьи деньги.
А сколько ее нервных клеток унесли Сашкины капризы? Девчонка же ни в чем отказа не знает, все получает по первому требованию! А ее последняя выдумка со стриптизом чего стоит? Нет, нельзя ее упрекнуть в нелюбви к детям! Да и вообще, что еще за «любишь – не любишь», когда им скоро есть нечего будет? Какие такие нежности при нашей-то бедности? А может, ей это самое умение любить природой не дано? А против природы не попрешь! И вообще, уважаемая моя Майя, ты не психоаналитик, который может рассматривать в микроскоп самые тонкие движения души, принадлежащие по праву только мне одной, и пытаться определить там, как в крови и моче, качество составляющих частиц, чтоб потом судить, какая ты есть, и обязательно приклеить какой-нибудь ярлык... Детей, видишь ли, я не люблю! Обойдусь и без твоего психоанализа! Сама разберусь, не дура...
От поднявшего голову раздражения в душе началась настоящая сумятица. Чем ближе Соня подъезжала к дому, тем больше возрастала совсем было утихшая в Майином доме тревожная внутренняя дрожь. Ситуация снова наплывала на нее, теперь уже более объемно, вместе с Майиными обвинениями и собственными страхами.
Квартира встретила ее темной прихожей, неуютной тревожной тишиной. Было слышно, как из крана на кухне капает вода, как от сквозняка запели свою песенку колокольчики «музыки ветра». Соня на цыпочках прошла в девчачью комнату, тихо открыла дверь. Машки не было. Странно. Сегодня же суббота, а Надя с Лизкой только в воскресенье должны приехать... Она долго и безрезультатно нажимала на кнопку звонка у Надиной квартиры, потом медленно вернулась домой. «Наверное, с Мишкой в магазин ушли», – решила Соня, заглянув в пустой холодильник. Она вдруг почувствовала, наверное, впервые в своей жизни, как ей плохо одной. Дом не принимал ее, словно она была чужая. Словно случайная гостья, оставленная вышедшими на минуту хозяевами.
Соня забралась с ногами в свое большое оранжевое кресло, пытаясь сосредоточиться. Это ее дом. Это ее кресло. Вот там, на полке, ее книги. Сейчас придут девочки. Будем ужинать... Не помогало. Тревога, сконцентрировавшись где-то в груди, расползалась медленно по всему телу, мешала дышать. «Почему я оставила Машку одну? Надо было с собой взять», – лезла в голову одна и та же мысль. Так она сидела еще долго, не шевелясь, чутко прислушиваясь ко всем звукам. Вот двери лифта открылись на их этаже. Пауза. Когда в дверном замке наконец-то зашуршал ключ, Соня подскочила с кресла, быстро выбежала в прихожую.
– А где Машка? – огорошила она вопросом вошедшую Мишель.
– Мам, ты что, ее гулять отпустила? Я ж тебе говорила, не надо...
– Мишка, так она не с тобой? А где тогда? Ее дома нет... Я уехала утром к Майе, меня Сашка попросила. Я думала, что быстро вернусь. Боже, уже половина одиннадцатого!
Соня в панике заметалась по прихожей, на ходу одеваясь, выскочила из квартиры, начала нервно дергать кнопку вызова лифта.
– Ну что ты копаешься? – кричала она на замешкавшуюся Мишку, придерживая автоматически закрывающиеся двери.
– Мам, успокойся, ради Бога. Сейчас найдем.
– Слушай, у нее же своих ключей нет... Когда она ушла? Двери захлопнула, а открыть-то не смогла...
Они долго обходили все дворы, опрашивали бабушек на скамейках, будили соседей. Машка пропала бесследно. Лишь пожилая женщина с первого этажа рассказала, что видела девочку днем около подъезда. И все.
Пока Мишка звонила в милицию, пока искала Машкину фотографию, Соня сидела, не раздеваясь, на кухне, выпрямив спину, уставившись в никуда.
Нет, это происходит не с ней. Такого с ней просто не может произойти. Чтобы все вот так, сразу, и в одной точке...
Потом они с Мишкой долго сидели в дежурной части, вспоминая всех Машкиных подружек и телефоны своих знакомых, и что-то еще без конца у них спрашивали и писали какие-то бумаги... В какой-то момент Соня, вынырнув из своего вязкого, затуманенного валерьянкой сознания, вдруг увидела себя со стороны: перепуганная, уже не-молодая женщина в нелепых джинсовых молодежных бриджах, в щегольских сапожках, в модной курточке прекрасного абрикосового цвета... Неужели это она? Жалкая, дрожащая...
Ее устроенный, удобный, комфортный мир улетал от нее с сумасшедшей скоростью, оставляя после себя растерянность, отчаяние и страх.
Вернулись домой глубоко за полночь, где их ждала взволнованная Сашка.
Сидели втроем на кухне, курили. Даже Мишка, всю свою сознательную жизнь не курившая, вдруг схватилась за сигарету. Вдохнула дым, надсадно закашлялась. Соня сидела, будто неживая. Ей казалось, что она смотрит по телевизору какой-то знакомый детектив, что сейчас, в конце фильма, уже все разъяснится и можно будет выключить телевизор и спокойно лечь спать...
– Мам, а может, отец приезжал, забрал Машку?
До нее не сразу дошел смысл Сашкиного вопроса. Она долго смотрела на нее, соображая, никак не могла сосредоточиться.
– Нет, зачем она ему...
– Ну как зачем? Просто соскучился! Приехал и забрал! А завтра обратно привезет! Мам, давай, иди спать! Завтра все выяснится!
– Нет, зачем она ему... – тупо повторила Соня свою фразу. И тихо добавила: – Она же не его дочь...
– Что?!
Сашка с Мишкой в ужасе уставились на нее.
– Мам, что ты говоришь... – тихо и испуганно прошептала Мишка. – Не надо, мам...
Сашкины глаза, напротив, загорелись любопытством.
– Ну ты даешь! А отец-то знает? А кто тогда Машкин отец?
– Да, Игорь знает... Я тогда приехала из Сочи, я там влюбилась, ну, вы понимаете... И захотела оставить ребенка.
– А я помню... – тихо сказала Мишель. – Когда тебя надо было забирать из роддома, отец так напился, я его никогда таким не видела... Надо уже было за тобой ехать, а я его в чувство никак привести не могла. Я тогда думала, он от радости...
– Да кто, кто отец-то?
В Сашкиных глазах было столько неуемного бесстыдного любопытства, что Соня вдруг встрепенулась и грубо заорала на дочь:
– Да какое тебе дело? Отстань от меня! Не лезь!
Сашка вздрогнула, придвинулась к матери, обняла за хрупкие плечи.
– Ну прости, прости меня ради Бога...
Соня, уткнувшись в Сашкино плечо, наконец заплакала, впервые за весь этот тяжелый вечер. Плакала тяжело, с надрывом. Ей казалось, что она сейчас выплачет все нутро и никакая валерьянка ее уже не спасет. Они почти насильно уложили ее в постель, сознание выключилось само собой, будто где-то кто-то нажал на неведомую кнопку отбоя.
– Слушай, Мишка, а ведь об этом надо в милиции рассказать... Выходит, у Машки где-то отец есть. А вдруг это он ее украл?
– Не знаю... – Мишель глубоко задумалась, растирая ладонью лоб и щеки. Она так устала сегодня, целый день работала, без завтрака, обеда и ужина. – Ничего не соображаю...
Рассвет застал сестер спящими за кухонным столом. За окном громко пели птицы. Апрельский день обещал быть ярким и солнечным.
ИГОРЬ
Он любил дорогу. Состояние сосредоточенности всегда успокаивало, мысли начинали течь прямо и четко, как серая полоса асфальта. Машина, которую он подрядился перегнать, оказалась новеньким «жигуленком» последней модели, все в ней еще поскрипывало и притиралось, резвилось и просило скорости, словно молодую резвую борзую впервые вывезли в лес, на охоту, и она рвет поводок, быстрее просясь на волю.
Хорошо... Не то что его разбитая древняя колымага, старая загнанная лошадь, спотыкающаяся на каждой колдобине.
Чего это его на метафоры потянуло? Так, пожалуй, скоро и стихи писать начнет... А что? Поживи-ка столько лет с неземной женщиной, которая смотрит сквозь тебя, совсем не чувствует и не ощущает тебя, а просто героически терпит, как необходимый жизненный атрибут...
Он и жил. Сначала был влюблен до безумия. Как же, не от мира сего девушка, эфир. А он такой простой, грубый, приземленный. Но девушка оказалась достаточно жизнеспособной, сумела-таки все для себя удобно устроить! А как же? Тихий, спокойный, покорный муж, внимания и любви не требующий, дома редко бывающий, озабоченный добыванием хлеба насущного – отец троих детей как-никак.
Прямо как в анекдоте про слепого глухонемого капитана дальнего плавания...
Да все бы ничего, он бы и терпел! Если б не эта история с рождением Машки, то и был бы до конца своих дней тихим, спокойным, покорным, нелюбимым... Другие на себе еще и не такие кресты несут! Но когда Соня, приехав из Сочи, через месяц сообщила ему новость о своей беременности, что-то вдруг затормозило в нем, перевернулось, и с бешеной скоростью пошел отсчет в обратную сторону. Она даже не удосужилась приврать, схитрить как-то по-женски, пощадить его самолюбие! Ходила после отпуска с отрешенным видом, со счастливыми глазами, светилась вся от приятных воспоминаний... Ну да, человек весь в счастье, в облаках витает, а тут извольте переживать, что муж о ее беременности подумает! Машку он, конечно, принял и разыграл как по нотам роль счастливого отца, но маховик внутри его все крутился и крутился в обратную сторону, все быстрее и быстрее...
Вообще он особо и не претендовал никогда на семейную постель. Неприятно, знаете ли, когда тебя просто терпят, отдают супружеский долг. Лучше уж совсем не надо! Были у него, конечно, женщины на стороне, а как же, конечно, были! Когда тебя не ждут дома к ужину, даже и к завтраку тоже не ждут, что ж остается?
А с Элей произошло все как-то сразу и вдруг, словно все сошлось в одной точке: его внутренний маховик уже раскрутился с такой силой, что выбросил его прямо на эту девчонку, полную Сонину противоположность: маленькую, кругленькую бусинку, незаметную серую мышку, от одной мысли о которой сердце становится большим и теплым, а губы сами собой расползаются в глупейшей улыбке влюбленного по уши мужика. Все случилось, как случилось. Значит, так и должно быть. Правду говорят, что когда Господь закрывает одну дверь, он тут же открывает другую. Значит, дверь в его прошлое закрыта. Навсегда.
Самое удивительное, его не мучило ни чувство вины, ни чувство долга – его верные сопровождающие на протяжении стольких лет его странной семейной жизни.
Дочери взрослые, они уже сами себе дорогу найдут. А любить их он будет всегда, где бы они ни были. Чтоб любить детей, не обязательно находиться рядом с их матерью.
Только вот Машка... Он успел и привязаться к ней, и в то же время, глядя на нее, ощущал внутри опасный, уже знакомый скрежет. Конечно, он будет помогать Соне. Сейчас пока не может. Вот устроится все, утрясется как-то, тогда... Он же еще не старый, он все может! И работать – сколько угодно, и любить по-настоящему, по-мужски! Он просто обязан наверстать все то им не прожитое, что осталось в той его жизни, за теми дверьми...
Конечно, Соне будет трудно. Но нет ничего плохого без такого же равновеликого хорошего, он в это свято верит. Ничего, упадет с небес на землю. Зато, может быть, глаза откроются. Раз родилась земной женщиной, а не марсианкой, так и живи на земле, а не на небе. Будь как все.
Все-таки хорошая штука – дорога. Чем дольше едешь по прямой, тем яснее становится голова, и сами собой выстраиваются должным порядком мысли, и все происходящее с тобой кажется правильным и значительным. Уже завтра утром он приедет на место, сдаст машину, потом сядет на поезд и на следующий день будет в своем городе, рядом с Элей, с его любимой белобрысой бусинкой, с надеждой на счастье, на новую, другую жизнь!
СОНЯ
Они все так дружно бросились навстречу разлившейся по квартире трели дверного звонка – девчонки из кухни, Соня из комнаты, – что столкнулись в узком коридорчике, ведущем в прихожую. Соня первая подбежала к двери, трясущимися от волнения руками повернула рычажок замка. За дверью стоял высокий молодой мужчина, представившийся капитаном Литовченко, Сергеем Семеновичем.
Представлялся он почему-то только одной Сашке, которая хоть и лупила на него испуганные спросонья глаза с размазанной под ними тушью, и косматая была, и помятая, а все равно хороша до неприличия.
Капитан Литовченко прошел на кухню, с удовольствием согласился на чашку кофе. Пока закипал чайник, сидел молча, поставив локти на стол, уперев в ладони подбородок. Сашка суетливо подхватила закипевший чайник, Мишель щедро насыпала в большую красную чашку растворимого кофе. Втроем они смотрели на него с опасливым ожиданием, сосредоточенно провожая глазами каждый жест, будто рачительные хозяева, ведущие подсчет, сколько же ложек сахара положит себе в чашку их гость. Не спеша размешав достигший консистенции сиропа кофе, капитан, обратившись с вопросом опять же именно к Сашке, изрек:
– Отношения в семье у вас какие?
Они дружно переглянулись, опять уставились на него непонимающе.
– Вы про Машку хоть что-то узнали? Видели ее где-нибудь? Искали уже? – не выдержала Сашка.
Капитан сделал большой глоток кофе, выдержал паузу, тем же тоном повторил:
– Так отношения в семье у вас какие?
– Да нормальные отношения...
Диалог вела Сашка, потому как он упорно продолжал обращаться именно к ней, как будто ни Сони, ни Мишки на кухне не существовало.
– А отец девочки где? Он вообще у вас имеется?
– Вообще имеется.
– А с ним я мог бы поговорить?
– А с нами что, нельзя поговорить? Мы тут как бы никто и звать никак? Посмотрите на маму, она сейчас с ума сойдет!
Сашка начала раздражаться, голос ее взвивался спиралью все выше и выше, что было опасным признаком приближающегося скандала. Соня, с огромным трудом проглотив противный комок страха, как можно более спокойно произнесла:
– Понимаете, Сергей Семенович, мы с мужем сейчас в состоянии развода, и я не знаю, где он теперь живет...
– Ушел из семьи, значит? К молодой и красивой? И адреса не оставил? Уже интересно... А как он с детьми общается? Приходит или по телефону звонит?
– Да никак пока... А какое это имеет значение?
– Перед уходом мужа ссоры при детях были? Как расставались? Со скандалом?
– Нет, никаких ссор у нас не было... Просто ушел, и все. Вещи даже пока не забрал. Позвонил только, сказал, что не придет больше.
– А девочка знает, что отец ушел из семьи?
– Да она и не поняла еще ничего. И к отцу уйти не могла. Мы и сами-то не знаем, где его искать! Квартиру где-то снимает...
– А может, вы обидели ее чем? Ну, накричали там, ударили... Женщины в этом состоянии бывают неуправляемы, часто на детях и срываются. Сам от двух жен уходил, знаю...
– Нет, Сергей Семенович, в нашей семье никто никого никогда не бил. И тем более маленького ребенка. Просто так получилось, что в субботу она одна дома осталась, обычно это редко бывает. А насчет женского состояния... Давайте на эту тему рассуждать не будем, уж слишком она интимна.
– Ну что ж, так и запишем... Ребенка никто не обидел. Из дома раньше не убегала. Семья положительная. Будем искать вашу девочку... Днем придет наш сотрудник, поставит прослушку на аппарат. А пока обо всех подозрительных звонках сообщайте мне. Телефон я оставлю.
– Так вы думаете, ее украли? – ахнула Сашка. – У нас же и попросить-то нечего, мы скромно живем. Если уж детей красть – так у богатых, а мы-то тут при чем?
– А квартира приватизирована? У вас ведь еще и машина, и дача имеется.
– Да какая там дача, Господи... Развалюха в деревне. И машина такая же.
– Да, все действительно очень странно... – Капитан многозначительно замолчал, потом резко встал, пошел в прихожую. – Будем заниматься, найдем, не волнуйтесь. Всякое бывает, – уже в дверях, оборачиваясь, почти душевно произнес он.
– Идиот какой-то... Уставился, будто раздевает глазами! А ничего путного не сказал! – возмутилась Сашка, закрыв за гостем дверь.
– А ты привыкай уже потихоньку к таким-то взглядам, еще и не так посмотрят!
Сашка возмущенно и обиженно уставилась на Мишку.
Не сказав ни слова, удалилась в ванную, с остервенением повернув ручку замка, на полную мощность открутила кран.
Соня так и сидела в кухне, держа в руках красную чашку, из которой только что пил свой кофе утренний гость. «А я ведь больше не могу... Я ведь скоро с ума сойду!» – в отчаянии думала она, дрожащими пальцами пытаясь поднести огонь зажигалки к концу сигареты. Сигарета и огонь никак не совмещались, глаза разъезжались в разные стороны, как у пьяной, все в них двоилось, и троилось, и расплывалось кругами в узком пространстве кухни. Наконец ей удалось-таки прикурить, дым противно ожег горло. Соня закашлялась надрывно, будто заплакала.
– Мам, ты бы не курила! Плохо же будет тебе! Надо ж силы сохранять, возьми себя в руки!
– Не могу, Мишка. Ни сил не осталось, ничего не осталось. Господи, ну кому она понадобилась, моя дочь?
– Мам, а ты это... В самом деле ее ничем не обидела?
– Да я уходила, она спала еще! Думала, я быстро... Господи, ну зачем я послушала Сашку, оставила ее одну? Это я одна во всем виновата...
– Ой, только не плачь, не надо! – взмолилась Мишка, увидев, как Соня закрыла лицо ладонями. – Надо ждать. Найдут. Надо ждать и надеяться.
Из ванной вышла умытая Сашка, с двумя косичками, тихо присела на край диванчика.
– Мам, мне что делать? Остаться с тобой или в школу идти? У нас сегодня тренинг по этому дурацкому единому экзамену, объяснять будут, что и как...
– Иди. У тебя и так пропусков больше всех. Да и что толку тут со мной сидеть? Иди, конечно...
– Я к обеду буду уже дома. Ну я пошла...
Мишель проводила Сашку, на ходу давая ей какие-то указания, закрыла за ней дверь, вернулась на кухню.
– Мам, мне тоже надо ненадолго уйти. У меня в сумке ключи от сейфа, а там печать, все документы... Я очень быстро, туда и обратно, ладно?
– Да, конечно... – Соня отрешенно кивала, рассматривая пустое дно красной чашки, словно силилась прочитать на ее дне что-то важное. Если напрягать глаза, то можно на какое-то время сдержать слезы, готовые вот-вот пролиться, дать им отсрочку минут на пять. Как раз хватит, чтобы все ушли.
Вот и за Мишкой захлопнулась дверь. Она совсем одна. Они все уходят от нее, один за другим... Что она сделала не так? Ну Игорь, понятно, влюбился. Хотя вот так, сразу, за один вечер... Нет, так не бывает. Что-то тут не так. И Мишка скоро ее бросит, уедет в свой дурацкий Мариуполь. Это тоже понятно, она любит, ей замуж хочется. Но почему именно сейчас? Сашка вообще уходит в чужую, непонятную ей жизнь... Что происходит? Как будто кто-то неведомый вмешался в плавное благополучное течение ее жизни, все перевернул вверх дном, уничтожил, решил отнять последнее. Но Машку, Машку-то не отнимайте! Она ее дочь, Сонина, она ее для себя родила!
Господи, пусть она найдется! Пусть Игорь уходит, и Мишка уезжает, и Сашка идет своей дорогой, но Машку не отнимайте... Пусть она будет жива...
Сквозь слезы Соня услышала звонок, распрямилась, как тугая пружинка, за секунду преодолев путь от кухонной двери до телефона, схватила трубку.
– А, это ты, Майя... У нас беда, Машка пропала... Да, со вчерашнего дня... Да, и милиция была... Пока ничего... Ну приезжай, конечно...
Она автоматически продиктовала адрес, положила трубку. Долго стояла у аппарата, думая, кому позвонить, поделиться своей болью, попросить помощи. «А ведь у меня ни друзей, ни подруг настоящих нет... – вдруг подумала она. – Я и дружить-то не умею, да и необходимости такой не чувствовала никогда. Сама себе лучшая подруга. И никто мне не нужен был. А вот поди ж ты, случилась беда – и поделиться не с кем. Хорошо, хоть Майя сейчас приедет...»
Соня села в кресло, обвела взглядом свое жилище. Дом-предатель. Убогое кресло под кричащим оранжевым пледом. Безвкусица. И торшер этот желтый... И книги-предатели.
«Что ж ты не спасаешь меня, любимый мой Антон Павлович? Кукуруза души моей... А ты, Лев Николаевич? Видишь, как все смешалось в доме Веселовых? Сидела тут вечерами в кресле под желтым торшером, перечитывала вас, жила жизнью ваших героев, наслаждалась музыкой вашего языка, а своя-то жизнь просвистела мимо! Где мой муж? Где мои дети? Любить-то я их и правда не умею...»
Вдруг заболело сердце. Соня никогда раньше не чувствовала сердечной боли, всегда считала себя здоровой молодой женщиной с чистым, не отягощенным шлаками и прочей нечистью организмом. Сердце болело как-то странно. Как будто в него воткнули очень горячий гвоздь и оставили там. И вот он остывает понемногу и жжет, жжет...
Соня встала, вышла в коридор. Постояла у двери, прислушиваясь к звукам. Тихо. Даже лифт не шумит. Маша, Машенька, рыжий мой ангел! Прости свою неразумную мать. Прости за то, что витала в облаках, не хотела отдать от себя ничего, не смотрела тебе в глазки, а если и смотрела, то не видела ничего, не хотела видеть! Где ты, что с тобой? Соня стояла, подперев спиной дверь, потом тихо соскользнула на корточки. «Так, хватит. Я с ума сойду... Надо сосредоточиться». Соня закрыла глаза, сцепила в замок руки. Кому позвонить, где искать? Куда она могла пойти? Ответов на вопросы не было никаких. Голова кружилась так сильно, что Соня быстро открыла глаза, бессмысленно уставилась вверх. Взгляд ее вдруг задержался на Мишкиной курточке. «Какая она старая, потертая уже... – совершенно отрешенно вдруг подумалось ей. – Ее и носить-то нельзя. Я б такую никогда не надела... – И тут же пришла в ужас от этой мысли. – А это ж моей дочери куртка, а не посторонней девочки с улицы!» И словно в подтверждение увиденного, в глаза бросилась ее, Сонина, висящая на плечиках элегантная новая курточка необыкновенно красивого абрикосового цвета. Вот, смотри... Сиди и смотри! Гвоздик в сердце опять раскалился докрасна, зашевелился, боль пошла волнами по всему телу. «Господи, Мишенька, прости меня, я никудышная мать, прости...»
И тут же перед глазами неожиданно ясно встала картинка из прошлого. Соня на балконе, в этой самой квартире готовится к экзамену. Светит яркое июньское солнце, ветки липы тянутся к перилам, дурманяще пахнут начинающимся летом, молодыми листьями, промытыми только что пролитым дождем. В коляске на балконе спит маленькая Мишель. Спит уже давно, словно понимает, что у матери завтра экзамен, а времени в обрез... Наконец просыпается, тихо крякает в своей коляске, не плачет и не кричит, как все дети, а вежливо подает сигналы: «Проснулась я, мам, кормить-пеленать пора...» Раздосадованная Соня берет ребенка на руки, быстро пеленает, потом кормит грудью, одновременно читая учебник, извернувшись в неудобной позе. Лицо ее сосредоточенно, глаза близоруко сощурены – читать-то неудобно... Наконец выспавшаяся сытая Мишка снова лежит в коляске, лучезарно и беззубо улыбается матери, вся тянется ей навстречу, сияет глазками, гулит ласково... Соня начинает сильно трясти коляску, раздраженно катать ее по балкону. «Спи! Спи! Мне заниматься надо! Я ж тебя накормила! Вот и спи!» Мишка лупит глаза, перестает гулить и улыбаться, только смотрит взрослым потерянным, надломленным взглядом. Соня трясет коляску все сильнее, смотрит на ребенка уже злобно, повторяя одно и то же: «Я ж накормила... Ты ж сухая... Чего еще...» Глаза у ребенка начинают затуманиваться, закрываться, как у маленького совенка: верхние веки медленно двигаются вверх-вниз, вверх-вниз... И Мишка покорно засыпает.
«А ведь у нее так и осталась на всю жизнь эта привычка: когда я кричу и раздражаюсь, глаза тут же становятся отрешенными, мутными, а веки медленно поднимаются и опускаются, как у совы... – вспомнила Соня. – Я еще в младенчестве ее подавила, значит...
Довольствовалась ее добротой и послушанием, мне так было удобно. И теперь отпускать от себя не хочу не потому, что люблю сильно, а опять же для удобства своего. Господи, как в сердце горячо, как больно жжет...»
От звонка в дверь бешено заколотилось сердце. Соня распрямилась пружинкой, открыла, подалась навстречу. Машенька?.. За дверью стояла укутанная толстым шарфом Майя, держа в двух руках большой пакет, из которого торчал длинный белый батон, выглядывал здоровенный рыбий хвост. Соня разочарованно отступила в глубь прихожей. Вид еды оскорбил ее до крайности. Даже затошнило.
Майя вошла, внимательно посмотрела на Соню. Размотала свой длинный шарф, сняла пальто, встала напротив нее, уперев руки в бока.
– Так, немедленно умойся и причешись! На кого ты похожа? Я сейчас приготовлю чего-нибудь поесть.
Майя буквально затолкала Соню в ванную, заставила умыться, почистить зубы, провести щеткой по волосам. Из зеркала ванной на Соню смотрела другая женщина, с провалами вокруг глаз, с загнанным взглядом, бледной, нездоровой кожей. Лицо женщины из общественного транспорта...
Чашку крепкого сладкого кофе она все же выпила. А вот с едой не получилось, как Майя ее ни убеждала, что поесть необходимо, что она в обморок может упасть в самый неподходящий момент. Господи, да она бы с удовольствием провалилась в этот самый обморок! И не выходила бы из него вообще... Телефон звонил непрерывно. Звонили соседи, звонили из милиции, уточняли детали, звонила Сашка из школы, чтобы узнать новости... Новостей не было никаких. Соня понуро возвращалась на кухню, закуривала очередную сигарету. Майя в очередной раз уговаривала ее поесть.
– Майя, ты лучше поговори со мной. Как вчера...
– О чем ты хочешь поговорить?
– Помнишь, ты вчера сказала, что я не умею любить своих детей? Почему я, немолодая уже женщина, прочитавшая столько книг, считающая себя интеллектуалкой, всезнайкой, стоящей на несколько ступеней выше других, не понимала такой простой вещи?..
– Так не умела любить, поэтому и не понимала. Ты ж не знала, что не умеешь. Жила и жила себе в неведении. Многие так живут. Нужно пережить очень сильное потрясение, чтоб что-то понять, переоценить. Зажить другой жизнью. Вот и считай, что тебе чуть приоткрылась дверь в эту другую жизнь, а в прежнюю закрылась. Тебе теперь силы нужны, чтоб в нее войти, а ты даже поесть не хочешь!
– Отстань, а? Не могу я есть... А почему ты умеешь любить? Ведь умеешь же! Кто тебя-то научил? У тебя ж родители умерли рано, ты сама рассказывала, что в интернате при балетном училище выросла!
– Ты знаешь, через меня много детей прошло, и родителей я видела всяких. Некоторые облизывают свое дитя, не отпускают от себя ни на шаг, у него и танцы, и английский, и все, что угодно, и родители уверены, что до бесконечности любят свое чадо... А потом не получается из него ничего. Или бандит, или наркоман... Любить – это совсем не значит давать материальную любовь, в каком бы виде она ни была. Любить – это дать возможность ребенку идти своей дорогой, пусть дорогой ошибок и потерь, но именно той, которая ему предназначена. А любящий родитель идет всего лишь по обочине и немного сзади, чтобы вовремя поддержать и подать руку, если ребенок поскользнется. Нельзя прожить жизнь дважды, за кого-то, у каждого она своя, собственная, и у ребенка тоже. Видимо, мои родители это понимали и отпустили на свою дорогу, а дальше я сама пошла...
Соня задумалась. Потом подняла на Майю непонимающие глаза:
– Так я-то как раз своих детей и не облизывала... Они у меня росли, как спартанцы, сами по себе. Я больше собой занималась, чем ими!
– Да, ты их не облизывала, ты ими прикрывалась, как щитом.
Поделиться13Вторник, 5 февраля 00:19
Чтоб они самим своим присутствием в твоей жизни оправдывали перед обществом твой комфорт, чтоб давали всем возможность восхищаться тобой: надо же, многодетная мама, какая молодец, такие замечательные дети, а мама-то, мама как хороша... Ты их не отпускаешь с любовью каждую на свою дорогу, они тебе нужны для твоего же удобства. Сонь, а тебя мама любила?
– Нет. Она меня предъявляла всем, как смысл своей вдовой жизни, как флаг с написанным на нем девизом: «Вот моя умная, красивая и счастливая дочь, мое собственное достижение!» И постоянно лезла в мою душу изуверски, с агрессивным каким-то любопытством... Хотела жить моей жизнью, потому что своей не было!
– Эк ты о матери-то... А разверни-ка палец на себя! Разве ты так не делаешь?
– Нет, я не так... У меня вместо любопытства – равнодушие. Только я не знаю теперь, что лучше, а что хуже!
– А ты поставь знак равенства. Любопытство и равнодушие – равновеликие величины, только с разными полюсами. Вот и получится, что ты от своей мамы недалеко ушла... Ты ведь от нее сбежала, наверное?
– Да, сбежала... И замуж вышла, чтоб только к ней не возвращаться.
– А чего ты теперь от своих детей хочешь? Не научишься их любить – сбегут!
– Да уже бегут... Ты знаешь, как у нас все ссоры с Сашкой заканчиваются? Она мне заявляет: «Уйду жить к Майе!» Представляешь, как я тебя ненавидела? А теперь начинаю ее понимать... Слушай, а может, во мне любовь генетически не заложена? Может, одним дается, а другим – нет?
– Да всем дается. Только ее на свободу выпустить надо. Не отрицать. Признать свои ошибки. Если упрешься рогом в землю, не захочешь всю себя перетрясти, она так и останется там, внутри тебя, лежать мертвым холодным комочком. Вот у тебя в одночасье жизнь перевернулась – и она зашевелилась, заставила тебя думать, на волю просится...
– Лишь бы Машенька вернулась! Я за каждый день у своих детей прощения попрошу, за каждый час...
Соня еще что-то хотела сказать и не смогла. Заплакала. Она не выдержит, слишком много на нее свалилось сразу, слишком много... Плакала долго, навзрыд, сотрясаясь худеньким телом. Майя не мешала ей, сидела тихо. Потом налила корвалол в рюмочку, заставила выпить, отвела на диван, уложила. Села рядом, похлопывая по плечу. Соня затихла. И вновь в ее затуманенной голове стала ярко прорисовываться картинка из недавнего прошлого, четкая и ясная, сон не сон, явь не явь...
Дорога на дачу. Они едут в машине, Соня с Игорем впереди, девчонки – сзади. День солнечный, но не жаркий. Окно открыто, теплый ветер развевает волосы. В магнитофон вставлена кассета с песнями любимого Сониного барда. Одна за другой льются уже знакомые и каждый раз как будто вновь услышанные песенки про то, что «лето – это маленькая жизнь», и про купол неба, который может быть большим и звездно-снежным, и про то, как пахнет наволочка снегом... Сзади возмущенно фыркает недовольная музыкальным сопровождением Сашка, Машка спит, свернувшись клубочком на руках у Мишки. Вот и знакомое придорожное кафе, где они всегда останавливаются, чтобы поесть изумительных шашлыков, которые всегда самолично готовит Самвэл, хозяин кафе, шумный приветливый армянин. Широко улыбаясь, он идет им навстречу, раскинув руки, громко выражая свой восторг всегда одинаковыми восклицаниями про дорогих гостей, про Сонину красоту, про то, что она «ах, маладэц, родила троих красывых дэвочек, сама как дэвочка», целует Сонину руку, бережно взяв ее в обе ладони. Это похоже уже на ритуал, и все одинаково улыбаются и в сопровождении Самвэла и его восторгов проходят за свой любимый столик под дикой яблоней. Потом они вдвоем с Самвэлом выпивают бутылку красного вина под его витиеватые тосты за Сониных детей, чуть-чуть плескают и в Сашкин стакан, потому как из всего семейства лишь она одна, кроме матери, претендует на это удовольствие.
Соня сидит в красивой позе, нога на ногу, кокетливо щурится на солнце, снисходительно и лениво отвечая на вопросы Самвэла. «Да, Мишенька учится... Да, отличница, умница... Сашка красавица... Да, все танцует, все время на гастролях... Да, Машенька здорова... чудный, чудный ребенок...» Вино слегка дурманит голову, возбуждает аппетит, и вот уже несут блюдо с поджаристыми шашлыками, и много зелени, и острый-преострый соус с орехами и ткемалью...
Игорь, быстро съев свою порцию, встает и уходит к машине. Самвэл провожает его взглядом, наклоняется близко к Соне, бормочет на ухо: «Почему такой сердитый, слушай? Такая жена, такие дети, что еще нужно...» «...Чтобы встретить старость?» – смеясь, подхватывает Соня. «Какая старость, зачем старость? О чем ты говоришь, женщина? Молодая, красивая, все у тебя хорошо...»
Солнце с трудом пробивается сквозь густые ветки яблони, играет бликами на скатерти, на траве, в листьях над головой шумит ветер. Впереди – теплый беззаботный день с купанием, гуляньем по лесу, коротким послеобеденным сном, запахом березового веника в бане...
«Господи, неужели это было когда-то в моей жизни? Вот эта картинка стопроцентного, полного счастья – это было со мной?» Соня с трудом выплывает из полусна-полуяви, с ужасом осознавая, что то, что она сейчас увидела, теперь уже навсегда останется лишь воспоминанием и будет приходить к ней лишь изредка, во сне, как осколок ее прошлой жизни, за которой, как говорит Майя, уже навсегда закрылась дверь. «Не хочу я в новую жизнь, пусть повторяется этот счастливый день! Я буду стучать и царапаться в эту закрытую дверь, осознаю все свои ошибки, буду просить у Игоря прощения каждый день! Я снова хочу туда, в это солнечное лето, в свою беззаботность и бездумность! Пусть это плохо, пусть Майя называет это равнодушием, нелюбовью, неразумностью и еще бог знает как, пусть! Лишь бы Машенька вернулась, была здесь, со мной, а больше мне ничего не надо! Не хочу задумываться, не хочу лезть в эту глубину!»
Соня зарылась поглубже в плед, натянула его на голову, плотно зажмурила глаза.
Из кухни до нее доносились голоса, много голосов. Вот спокойный, на одной ноте звучащий – Майин, вот раздраженный, с истерическими нотками – Сашкин, а этот, мужской гудящий басок, Димин, наверное. Сколько ж она спала? Полчаса, час? А может, целый день? А вдруг есть новости про Машку, а она лежит тут и не знает ничего? Соня резко сбросила с себя плед, одним прыжком соскочила с дивана и тут же испуганно села обратно. Гвоздь в сердце так стремительно и резко перевернулся, что остановилось дыхание, грудная клетка напряглась и застыла, не давая вдохнуть воздуха. Гвоздь опять начал раскаляться, Соня чувствовала идущие от него горячие волны. Было больно и страшно. Она тихонько легла, выпрямилась вся, пытаясь дышать тихо-тихо, маленькими вздохами и выдохами, чтоб случайно не потревожить этот горящий гвоздь, иначе он опять перевернется, пройдясь своим острым концом по всему сердцу... «А вдруг я сейчас умру? – с ужасом подумалось ей. – Я ведь и на помощь позвать не могу... Может, именно так и умирают?» От страха она попробовала вдохнуть чуть больше воздуха. Получилось. Потом вдохнула еще чуть больше. Опять получилось. Боль потихоньку отступала, гвоздь остывал, давая наконец дышать.
Интересно, если она умрет, кто-то будет о ней плакать? По-настоящему, искренне, без показушного горя? – вдруг подумалось ей. И тут же вспомнилось, как умирала мама. Врачи обнаружили у нее рак в самой последней, запущенной стадии, но сильных болей она не чувствовала, диагнозу не верила. Скрутило ее лишь за два месяца до смерти, жестоко, до черноты. Соня ездила к ней каждый выходной. Утром приезжала, вечером – обратно. Что-то привозила, лекарства, продукты, что-то говорила, но ничего не чувствовала.
Еще подъезжая к дому матери, она думала о том, как скоро удастся уехать от этого кошмара, от этого вида смерти. Она понимала, что надо бросать все свои дела и быть с матерью, отдать дочерний долг, понимала, что просто обязательно надо... И не могла. Все собиралась и тут же придумывала причины, по которым ну никак она не может остаться: Мишка в институт поступает, экзамены сдает, Машка еще крошка совсем, Сашка сидит дома с растянутыми связками... Так и не побыла она с матерью, не ночевала с ней ни одной ночи, не ходила за ней по дому, не видела, как бьется она лбом о стену от боли, отчаяния и ужаса... Однажды, в одно из воскресений, мать попросила Соню принести ей арбуз, хотя уже давно есть ничего не могла, организм не принимал. Соня сходила на рынок, долго и тщательно выбирала, словно от степени сладости и спелости этого арбуза зависело и ее выполнение дочернего долга. Придя с рынка, тихо вошла в комнату к матери. Она лежала на кровати, вся вытянувшись, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, с жуткими ссадинами на лбу. Соня, прижимая к груди арбуз, долго стояла над ней, боясь пошевелиться, не зная, что делать, ничего, кроме страха, не испытывая, пока не скрипнула громко половица под входящим в комнату Игорем. Мать открыла глаза, долго смотрела на нее странным отстраненным взглядом, будто уже оттуда, будто это она видела Соню, а Соня ее – нет... На похоронах Соня не плакала. То есть для людей плакала, конечно, но скорее от страха перед фактом свершившегося события, от черных платков, от скопления народа, от вида вырытой в сырой глинистой земле могилы, да еще для того, чтоб плохо о маме не подумали, будто ее дочь не любит. Душевной же потери и пустоты, которую испытывают в этот момент любящие дочери, в себе так и не прочувствовала...
«Нет, они меня любят! – отчаянно забилось сердце. – И Мишка, и Сашка, и Машка – они меня любят!» Сразу стало почему-то очень стыдно, будто она спорила об этом с матерью, будто пыталась ей то ли что-то доказать, то ли оправдаться... Но ведь раньше ей никогда и не думалось об этом, не видела она себя так четко стоящей над ней, умирающей, с этим дурацким арбузом в руках!
Словно пытаясь убежать от нахлынувшего непонятного и незнакомого чувства стыда, она быстро встала с дивана, вышла на кухню. На диванчике вокруг стола сидели обе ее старшие дочери в обществе Майи с Димкой, пили чай, громко и озабоченно переговариваясь. Увидев вошедшую Соню, сразу замолчали. Соня уловила лишь конец Сашкиной фразы:
– ...Может, сочинила все! Не верю я ей!
– Кому ты не веришь, дочь? Мне?
Вопрос прозвучал неожиданно агрессивно. Сашка вспыхнула, потом заморгала растерянно, но через секунду уже пришла в себя, словно вспомнив, что ее голыми руками не возьмешь и врасплох не застанешь, и обратилась к матери уже спокойно, с долей снисходительности:
– Мам, ты как себя чувствуешь? Тебе чаю налить? Может, съешь чего-нибудь? Ты такая бледная, зеленая совсем... Тебе плохо?
Соня, игнорируя Сашкины вопросы, села за стол, выжидательно посмотрела на Мишку:
– Новости есть какие-нибудь?
– Звонил тот капитан, который был у нас утром... Выспрашивал все про папу, приметы там, номер машины, паспортные данные... Они думают, что это он ее увез! Его будут искать! Мам, может, надо рассказать?..
– Нет! Это только мое дело и никого больше не касается! И обсуждать со всеми это не надо!
Повисла неловкая, тяжелая пауза. Соня поискала взглядом сигареты, увидела полупустую пачку на подоконнике. Молча прикурила. Димка сидел, грустно и жалостно смотрел на Мишку. Глаза его сквозь толстые линзы очков казались огромными, печальными, как у юного принца из Машкиного альбома с рисунками.
Майя низко опустила голову, уперлась взглядом в свои ладони, лежащие на столе, одна на другой, смотрела на них сосредоточенно, будто прочитывала что-то важное, требующее внимания.
Соня по-прежнему молча курила, в голове было пусто. Чего они от нее хотят? Ну, пусть найдут Игоря, пусть он сам им скажет, что и как... Какая разница, от кого они узнают, что Машенька не его дочь? Разницы-то никакой...
Первым нарушил молчание Димка. Обращаясь к Мишке, тихо сказал:
– Я пойду, наверное... Проводи меня до автобусной остановки.
– Ребята, я с вами, – встрепенулась Майя. – Мне далеко ехать... – Потом, обернувшись к Соне, виновато сказала: – Я позвоню тебе вечером. А завтра приеду снова. Я лекарства все дома оставила, давление поднялось, боюсь, слягу тут у тебя...
– Маечка, я провожу... – быстро подскочила с места Сашка.
Соня, будто не слыша, вдруг обратилась к Мишке:
– А ты не пыталась эту девочку разыскать, ну, Игорь с которой... У которой он теперь... Может, она у кого-нибудь адрес оставляла? Ты у всех спрашивала?
– Ну конечно, у всех, мамочка! Никто ничего не знает... Я и в деканат ходила, и девчонкам строго-настрого наказала: как Элька в институте появится – сразу хватать ее и разыскивать меня...
Соня снова замолчала, сидела сердитым воробышком, втянув голову в плечи.
Хорошо, что все уходят. Пусть уходят. Ей надо побыть одной. Пусть снова навалятся стыд, страх, тоска, отчаяние, но ей надо самой в себе разобраться. Покопаться, как говорит Майя. Снова запустить крутящуюся назад, в прежнюю жизнь, пленку и смотреть, как кинохронику прошлых лет, но уже из сегодняшнего дня, когда все видится по-другому и прошлые предметы гордости вызывают или грустную улыбку, или жгучее чувство стыда...
А вдруг Машку и правда увез Игорь? Ну если на минутку только допустить, что вот он взял и соскучился, и увез, чтоб она поволновалась, чтоб пересмотрела всю их жизнь, чтоб взглянула на него другими глазами? Да чего уж врать себе про другие глаза, чтоб вообще посмотрела в его сторону?
А она ведь действительно не помнит, как в последнее время он выглядел. Приходил поздно вечером, ужинал тихо на кухне, один или с Мишкой, которая выходила к отцу составить компанию, разогреть для него еду, выпить с ним чашку чая, просто посидеть, поговорить ни о чем. Утром уходил рано, Соня еще спала крепко, бесшумно сворачивал постель со своего раскладного кресла в углу комнаты. Когда она просыпалась, уже ничего не напоминало о его ночном присутствии в квартире, даже его чашка стояла вымытой на посудной решетке. Деньги, оставляемые Игорем всегда в одном и том же месте, под красной индийской вазой, воспринимались Соней как что-то само собой разумеющееся, существующее вне зависимости от присутствия в ее жизни мужа. Денег иногда бывало очень мало, только-только свести концы с концами, бывало и побольше, когда можно что-то заначить, приберечь на безденежье или на приятную покупку. Иногда появлялись под вазой и достаточно крупные суммы. Она никогда не спрашивала у него, откуда они взялись и как ему достались, так же никогда не возмущалась и маленькими суммами – ее все устраивало. Она всегда чувствовала свою маленькую свободу, ограниченную пространством своей квартиры, и это ощущение свободы переносила и на Игоря, и на дочерей: если ей так хорошо, значит, и им так хорошо, ведь они же тоже свободны... Господи, ну почему она такая слепая, почему не разглядела опасности, жила только своими внутренними ощущениями? Не видела, не слышала, не понимала... Он же мужчина, в конце концов, хотя бы про супружеский долг она должна была помнить! Мало ли, что он ей неприятен! Физиологию еще никто не отменял... Тысячи женщин живут с нелюбимыми мужьями, а те и не догадываются о том, что нелюбимы!
Ругая себя, Соня понимала, что лишь наполовину искренна сама с собой.
На самом деле она часто думала о том, что стоит иногда изобразить из себя и внимательную жену, и страстную женщину, ждущую от мужа ночных удовольствий, да все как-то переносила начало спектакля на более поздние сроки, не хотелось ей играть, ну хоть убей, не хотелось... А ведь наверняка этой кругленькой девочке, которая увела ее мужа, совсем нет необходимости играть, изображать внимание и страсть, у нее все это есть свое, природное, настоящее, и, уж наверное, более притягивающее, чем броская красота или накопленная с годами сумма никому не нужных книжных знаний. Но ведь другие-то играют! И бывает, даже так увлекаются, что и не различают уже, где сцена, а где – зрительный зал. И привыкают, и ничего, живут себе и живут! «А почему я не смогла? Почему я решила, что Игорь – это навсегда, как природная данность, как дождь – летом, а снег – зимой? А любить его вовсе и не обязательно... Вот и получается закон равновесия: если не умеешь любить – тогда плати! И если я хочу вернуть свою комфортную жизнь – надо научиться говорить о любви, научиться изображать заботу, интерес, внимание, верность... Чего там еще? А, да... страсть, ревность, обиды...»
Фу, бред какой! Никогда это у нее не получится. Слишком противно изображать то, чего у тебя нет! Что может быть хуже плохой актерской игры, да когда еще и сценарий бездарно написан? Не умеет она играть и любить тоже не умеет... Права, сто раз права Майя, не умеет! Ну вот не дано природой, и все тут! Хотя она и утверждает, что природа тут ни при чем, что любовь есть в каждом – надо просто ее освободить, выпустить наружу. И что? Она полюбит Игоря?.. Совсем запуталась. Но ведь должен же быть какой-то выход!
Неожиданно накатила волна злобы. Что происходит? Она сидит тут одна, курит сигарету за сигаретой, у нее куча проблем, ребенок пропал, нервы ни к черту, в конце концов, у нее денег нет даже на то, чтобы прожить завтрашний день! А у него, видите ли, любовь! Можно подумать, у него раньше этих любовей не было! Да сколько угодно! Она всегда знала об этом, и что такого... Бывало, и домой звонили какие-то женщины, сообщали о своих близких отношениях с ее мужем. Странно все-таки, почему мужчины никогда не звонят мужьям своих любовниц, а женщины женам любовников – ну очень часто? Ее это не возмущало, а удивляло скорее: неужели ее мужа может кто-нибудь любить? Даже и льстило как-то... Пусть она плохая, невнимательная, нелюбящая, в облаках витающая книжница, но она ж зависима от него! Нельзя же вот так, разом все обрубить, это же жестоко по отношению к ней, к детям! Наказание ж должно соотноситься с преступлением, а она своего преступления до конца и не осознает даже... Она-то в чем виновата? В том, что природа обделила ее умением любить? Так это вина природы, а не ее, Сонина, вина...
Вот и пусть его через милицию найдут! Пусть ему будет стыдно! В конце концов, Машенька – его официальная дочь! Да и сам он никогда не обделял ее ни вниманием, ни заботой. Любил, как Мишку и Сашку, одинаково.
Тут же, словно напоминая о себе, зашевелился в сердце горячий гвоздь, все сильнее и сильнее, будто подавая неведомые сигналы. Соне даже на секунду показалось, что она выпала из реальности и летит куда-то, и снова невидимая глазу кинопленка, быстро и неумолимо прокручиваясь, несет ее назад, в тот теплый дачный августовский день.
В то утро она проснулась от непривычной дурноты. Голова кружилась так сильно, что не хотелось ни курить, ни пить кофе, вообще вставать с постели не хотелось. Три дня назад она прилетела из отпуска и сразу приехала сюда, на дачу.
Хотелось побыть одной, чтобы подольше удержать в себе ощущение ее южного счастья, всплеска яркой любви, подольше не расплескать, не растратить, бережно упаковать в коробочку и оставить в памяти, чтобы потом, по истечении времени, можно было извлечь эту коробочку, открыть, достать из нее, как величайшую драгоценность, воспоминание об этом ярком чувстве, досыта насладиться им и спрятать обратно, в коробочку...
«Отчего ж мне так плохо-то? – думала Соня сквозь приступы дурноты. – Погода, что ли, меняется?» И вдруг как-то сразу, неожиданно для себя, все поняла. Быстро произведя в голове нехитрые женские расчеты, убедилась в достоверности своей догадки. Решение пришло сразу, вместе с удивлением и радостью. Конечно, она оставит этого ребенка. Возраст критический, страшновато, конечно, – пусть! У нее будет ребенок от любимого человека, хоть она и не увидит его никогда – пусть! Словно одобряя ее решение, тело благодарно ответило пришедшей вдруг легкостью, предвкушением будущей бурной физиологической радости. Дурнота отступила, вновь пришли запахи и звуки уходящего лета. Ветер ворвался в открытую створку окна, заиграл занавеской, принес ароматы прошедшего ночного дождя, умытых цветов, влажной земли. Сейчас она встанет, в пижаме выйдет на крыльцо, потом ступит босыми ногами на уже начавшую жухнуть траву, ветер подхватит волосы, пробежит легким ознобом по коже... Она чуть-чуть замерзнет, стряхнет с себя остатки сна, а потом приступит к обычным утренним удовольствиям: сидя на ступеньке крыльца, выпьет первую за день, самую вкусную чашку кофе, потом неторопливо позавтракает, выкурит сигарету. Хотя нет, вот курить она не будет. Табу. Девочке вредно... А в том, что будет девочка, Соня не сомневалась. Будет тихая уютная Машенька, рыжая и кудрявая скорее всего...
К вечеру приехал Игорь, усталый, большой, молчаливый. Прошел на кухню, тяжело сел за стол. Старый венский стул пискнул под ним жалобно. «Голодный? Я сейчас накормлю...» Соня быстро принялась готовить тесто для оладий, добавила в него тертого кабачка, морковки, зелени, разогрела сковороду. Игорь сидел у нее за спиной, сцепив руки, ждал ужина. Соня выложила в тарелку первую порцию, залила сметаной, поставила перед ним. «Хорошо, что приехал. Баню истопишь. Только не нагревай сильно, мне в большой жар нельзя... У меня будет ребенок, Игорь. Я так думаю, снова девочка... Ты рад?» – без всякого перехода выпалила Соня, выкладывая из сковородки новую порцию красивых поджаристых оладий. Потом с тарелкой в вытянутых руках развернулась в изящном реверансе к Игорю, сияя счастливой улыбкой. Наткнувшись на его взгляд, полный отчаянной, прожигающей злобной обиды и боли, чуть не выронила тарелку, заморгала испуганно. «Чего это он? – совсем растерялась Соня. – Я у него отродясь таких глаз не видела...» И тут же обожгла запоздавшая догадка: «Господи... Ну почему я такая наивная? Чему он-то должен радоваться? Мы ж уже больше двух месяцев не исполняли свой долг супружеский, будь он неладен! И как я забыла об этом? Можно ж было выкрутиться, сделать хотя бы легенду честной беременности. Он бы понял, конечно, его преждевременными родами не обманешь, но все-таки... Эх, надо, надо было подсуетиться!»
Проклиная свою наивную бабскую бестолковость, Соня развернулась к плите, нарочито суетливо начала хлопотать над сковородкой, где уже начинала пригорать новая порция оладий. Услышала, как за спиной громко всхлипнул несчастный доходяга-стул, вздрогнула и почему-то втянула голову в плечи. Игорь тяжело прошел у нее за спиной, громко хлопнув дверью, вышел во двор. Соня села, уперлась взглядом в дверь, из которой только что вышел Игорь, и начала себя уговаривать, успокаивать мысленно, как делала всегда в минуты растерянности. Ну чего это она так испугалась? Нельзя ей вздрагивать, ее теперь беречь надо, между прочим! Ну не догадалась она обмануть, не спустилась вовремя со своего счастливого облака на землю... Досадно, конечно...
Часа через два, выглянув в окошко и увидев идущий из тубы бани вялый дымок, она совсем успокоилась, вышла во двор к Игорю, неся ему чашку свежезаваренного чая. Спросила ровным, спокойным голосом о чем-то бытовом, незначительном, он так же ровно и спокойно ответил...
Больше такого жгучего, обиженно-злобного взгляда у Игоря Соня не видела никогда. Всю беременность он носился с ней, «будто дурень с писаной торбой», как говаривала покойная свекровь. Соня, как и полагается, классически капризничала, но перенесла позднюю беременность легко, в родах не мучилась и даже каким-то образом сохранила свою стройную гибкую фигуру, на что, в общем, особо и не рассчитывала.
Машку Игорь принял спокойно, с другими детьми не различал, да она и не приглядывалась, не задумывалась, жила и жила себе...
Почему ж сейчас так больно, когда безжалостная, раскручивающаяся назад, в прошлое, кинопленка преподнесла ей тот его отчаянный, обиженный взгляд? Почему ей сейчас так стыдно? Стыд прожигает насквозь, она чувствует физически его, Игорево, унижение, как свое собственное...
САШКА
– Не смей! Не смей так про мать! Иначе я тебя уважать перестану! – горячилась Майя, отчитывая Сашку так громко, что оглядывались прохожие на улице. Они медленно шли в сторону автобусной остановки, составляя довольно-таки странную пару: высокая, красивая, тоненькая девушка и маленькая, сухая, прямая, как палка, закутанная в теплый толстый шарф женщина с сердитыми глазами. – Это, в конце концов, ее личное дело, от кого ей рожать детей, да даже не в этом суть... Никогда не будь судьей! Не давай оценок людям, а тем более – своей матери! Ей сейчас еще хуже, чем вам всем, вместе взятым!
– Да почему ты решила, что ей хуже? – так же яростно горячилась Сашка. – Она ж нас в упор никогда не видела! Ты обо мне больше знаешь, чем она! Помнишь, как в восьмом классе я залетела и ты водила меня на аборт? А как от того парня-наркомана отваживала, помнишь? Каждую минуту меня отслеживала... А в нашей семье у детей главная задача – не путаться у мамы под ногами! Шуметь – нельзя! Подруг водить – нельзя! Отвлекать – нельзя! Приставать – нельзя! Ничего нельзя! В нашей семье только маме всегда было хорошо! А как же? Для всех она – уважаемая мать семейства, а семейства-то и нет никакого на самом деле... Она не живет с нами, а телевизор смотрит с пультом в руках: кнопку нажала – на экране все зашевелилось, другую нажала – экран отключился. Удобно! А что она с Мишкой сделала? Превратила ее в марионетку какую-то! Она, видишь ли, сомневается, смеет ли устраивать свою личную жизнь, если маме плохо. И будь уверена, она ее так и не отпустит никуда, будет при себе держать! Это на мне она зубы сломала, моя кнопка на ее пульте не работает, а вот отца, Мишку – да...
– Саша, а ты пробовала когда-нибудь вот так поговорить с мамой? Ты обижаешься, злишься, негодуешь, копишь в себе возмущение, а просто поговорить ты пробовала?
– Да не получится никакого разговора! Не слышит она ничего!
– Правильно. И не услышит, если ты будешь говорить на фоне уже сложившейся своей оценки! А ты попробуй принять ее такой, ну вот просто разреши ей быть такой, прими от нее все то, что тебя так раздражает, за данность. Сначала убери свое раздражение, злобу, обиду – а потом поговори...
– Нет! Не хочу! Вот начну зарабатывать свои деньги и сразу сниму себе квартиру! И Машку к себе заберу! Если с Машкой что-то случилось – никогда себе этого не прощу! А ей – тем более!
– Ну да, сбежать от ситуации – проще простого. Это самое легкое для всех вас. А попытаться помочь, руку подать... Отца я вашего не обвиняю – он мужчина, здесь разлюбил – в другом месте полюбил. Это, наверное, объяснимо и понятно. А у вас, детей, другая задача – понять и принять своих родителей.
В тебе одна половина – мамина, хочешь ты этого или нет! Ты сможешь свою собственную половину взять и отбросить от себя? Нет. Так что, Саша, подумай об этом. Это даже тебе больше нужно, чем маме. Уйдешь с обидой – так с обидой и будешь по жизни идти, метаться из стороны в сторону.
Они пропустили уже третий автобус, стояли на остановке, говорили, говорили... Сашка поймала себя на мысли, что так бывает всегда: она никак не может оторваться от Майи, никогда не может вдоволь наговориться, ее тянет и тянет к ней как магнитом...
– Ты представь, что мама твоя – малое дитя. Она не может никак выйти из своего детского восприятия мира, из своей беззаботности, застряла она там надолго, понимаешь? Большой и шумный мир пугает ее, кажется жестоким и хамским. Вот она и прячется от него за вас, пытается таким образом уберечь себя. У нее просто детских ее силенок не хватает, чтобы быть такой, какой ты хочешь ее видеть! На самом деле она ранимая и беззащитная, и Мишель это острее чувствует, чем ты. Поэтому и боится оставить ее, и пожертвовать собой готова. Она ее просто любит. И принимает. А ты только тем и занимаешься, что воюешь, обвиняешь, злишься... А на самом деле из нее веревки вьешь. Всегда получаешь то, что хочешь! Посмотри, она ж боится тебя, как испуганный ребенок. Вот и ко мне помчалась по первому твоему требованию, как по приказу...
Сашка задумалась. Озадаченно смотрела в землю, на острые носки своих модных сапог. В голове у нее все перемешалось, и как ни силилась она, а все никак не могла представить мать малым ребенком, ну не получалось, и все тут!
– Ничего себе, дитя... – тихо проворчала она себе под нос. – Ее, наоборот, за умную почитают. Она только и делает, что учит всех, учит... Все на свете знает, про все читала, цитатами всяческими так и сыплет! Ты попробуй, скажи ей, что она малое дитя! Мама себя считает самой умной на свете!
– А интеллект еще не есть ум, Сашенька. Умным должно быть сердце, а оно у твоей мамы еще спит детским крепким сном. Вот и помоги ей, разбуди сердце! Все в твоих руках!
К остановке медленно подруливал Майин автобус. Она крепче затянула шарф на шее, зябко повела острыми плечами.
– Я поеду. Иди домой, Сашенька. И подумай обо всем еще раз. Ты же умница. Я в тебя очень верю...
Майя запрыгнула в автобус, повернулась к Сашке, помахала рукой. Двери закрылись, автобус с дребезжанием тронулся с места, увозя от нее Майю. Сашка медленно развернулась, тихо поплелась домой. Господи, как же она устала! Столько всего произошло за эти несколько дней! Какой-то калейдоскоп из школьных уроков, репетиций в ночном клубе, блесток, перьев, бессонных ночей, тяжелых потерь, семейных передряг, маминых слез... Как будто она сразу, без всякого переходного периода, перескочила из беззаботной юности в другое, взрослое, состояние, где надо не только самой отвечать за свои слова и поступки, но и нести ответственность за других. «Мама твоя – малое дитя... – звучал в ушах Майин голос. – Ты помоги ей, научи любить сердцем...» «Может, права Майя, говоря, что одна половина во мне – мамина? Я все время нападаю на нее, обвиняю в ханжестве, во лжи, бог знает в чем еще! А может, я сама такая, как она? Замкнутый круг какой-то. Мама подавляет отца с Мишкой, я подавляю маму... И все бежим, бежим в разные стороны, как будто от чего-то спасаемся: я – к Майе, отец – к этой белобрысой страшилке, Мишка – к Димке. Вот и Машка каким-то образом исчезла, тоже убежала куда-то... Что ж это с нами со всеми такое происходит?»
Задумавшись, она не заметила, как дошла до самого дома. Села на скамейку у входа в подъезд, вытянула длинные ноги. Устала... «Вот сейчас посижу немного и пойду домой. Там в пустой неприбранной квартире, на прокуренной насквозь кухне сидит моя мама, заплаканная, растерянная, напуганная уходом мужа, потерявшая ребенка, не знающая, как ей жить дальше. И правда, малое дитя.
Она тихо открыла дверь своим ключом, не снимая сапог, заглянула в кухню. Мама так же сидела за столом в темноте, сцепив перед собой руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Не мигая смотрела в угол, где висела маленькая иконка Казанской Божьей Матери. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим...» – уловила Сашка своим чутким слухом ее еле слышный шепот. Потом протянула руку к выключателю, зажгла свет.
Мама вздрогнула, испуганно уставилась на нее, прижав руку к груди:
– Господи, напугала... Я и не слышала, как ты вошла.
Сашка как была, в сапогах и куртке, села рядом с ней на кухонный диванчик, молча и долго смотрела в тревожные глаза с расширенными зрачками, сильно припухшими красными веками, в отечное от слез лицо. Такое знакомое и незнакомое... Вот видны морщинки вокруг глаз, резко обозначившиеся и на лбу, и на переносице, а вот несколько ярких седых волос в черной кудрявой пряди, прилипшей к мокрой щеке...
– Мам, давай покурим...
Видимо, уловив каким-то образом ее новое состояние и словно боясь спугнуть его неосторожным движением, Соня медленно вытянула из лежащей на столе пачки сигарету, сунула ее в рот, потом так же медленно протянула ей открытую пачку:
– Сашенька, а ты уже давно куришь?
– Да нет... Умею вообще-то, но не курю. Правда не курю. Так чего-то, захотелось с тобой вместе посидеть...
– Спасибо, Сашенька...
– За что?
– Сама не знаю. Все равно спасибо. Ты прости меня, дочь! За все прости...
Сашка вдруг почувствовала, что сейчас расплачется. Громко, сладко, навзрыд, с причитаниями, так, как никогда не плакала за все свои чуть не полных восемнадцать лет. Господи, сколько ж они слез пролили за последние дни! Она бы и правда расплакалась, если б не хлопнула дверь в прихожей и не вошла б на кухню рассерженная Мишка, не выхватила у нее изо рта недокуренную сигарету и не принялась, пытаясь затушить, яростно и неумело тыкать ею в переполненную окурками пепельницу.
– Не привыкай курить! Чтоб я тебя не видела больше с сигаретой! Хватит с нас и твоего стриптиза!
Плакать расхотелось. Она смотрела на разъяренную Мишку, чувствуя, как внутри начинает разливаться странное спокойное тепло. Потом всего лишь на миг переглянулась с матерью, и вдруг уловила мелькнувшую во взгляде, в выражении лица ранее незнакомую, едва заметную теплую искорку, и подхватила ее, и бережно спрятала в себе, при этом какой-то задней мыслью, шестым чувством сознавая, что произошло в этот миг с ними нечто очень важное, значительное, нечто новое и спасительное, так им обоим необходимое!
Мишка налила себе холодного чаю, села за стол. Сказала тихо:
– Сашк, завтра утром пойдем и разнесем всю милицию по кирпичикам. Они вообще хоть что-нибудь делают или нет? Мы сейчас с Димкой туда заходили, говорят – ждите. Легко сказать – ждите...
– Будем ждать... – тихо сказала Сашка.
– Будем ждать... – эхом откликнулась Соня.
ЭЛЯ
Какой чудный, яркий, весенний был день! Они долго гуляли с Машенькой по бульвару, ели мороженое, сидели на нагретых солнцем скамейках, болтали, как две закадычные подружки. Эля не старалась ее ничем занимать, ей до ужаса нравилось ходить, держа в руке маленькую теплую ладошку, слушать ее щебетание, держать на коленях в автобусе, чувствуя под рукой тонкие хрупкие ребрышки, отчего как-то странно и сладко ныло сердце.
А к вечеру Машенька разболелась.
– Нет, не уходи, пожалуйста! Посиди со мной, я не хочу оставаться одна! У меня правда ничего не болит! И горло не болит, только совсем чуточку щекочет! Ты дай мне лучше чаю с вареньем, и все!
Машенька вцепилась в Элину руку, смотрела умоляюще.
Глазки ее болезненно блестели, кашель был сухим и отрывистым, лоб под рукой горячо и неумолимо подавал сигналы о повышающейся температуре, повергая Элю в полную панику.
– Да как же, Машенька... У меня даже градусника нет! Я же быстренько, только до аптеки – и сразу обратно! У тебя жар начинается, а я не знаю, что делать... А мама как тебя лечит?
– Мама таблетки дает. Горькие... А Миша дает такое сладкое молоко, невкусное, я не люблю сладкое молоко...
– А-а-а... Это молоко с медом! Ты знаешь, мне мама в детстве, когда я болела, тоже давала молоко с медом. Молоко у нас с тобой есть, а вот меда нет... Я пойду согрею хотя бы молока, ладно? Полежи, я сейчас!
Эля метнулась на кухню, налила в кастрюльку молоко, поставила на огонь. Господи, скорее бы Игорь приехал! Что она будет делать одна, с больным ребенком? Зачем она ее забрала? А вдруг не надо было? А если ее действительно оставили одну надолго? Хотя Мишка не могла... Но ведь оставили же! А может, у них случилось чего-нибудь? И телефон, как назло, в этой квартире отключен! А до ближайшего автомата далеко бежать, целых два квартала... Она утром с трудом его отыскала, этот работающий автомат. А вдруг придется «скорую» вызывать? От мысли об этом рука в прихватке испуганно дернулась, молоко из кастрюльки расплескалось на плиту. «Вот безрукая бусина! – обругала себя Эля. – Глупая и безрукая! А вдруг Игорь рассердится, что я забрала Машеньку? Я же не знаю, как у них там все складывалось с Софьей Михайловной, он же не рассказывал ничего!» Сказал только, чтоб она ни о чем плохом не думала и себя ни в чем не винила и что они теперь всегда будут вместе... А она и не думала ни о чем таком плохом, просто одурела от счастья, вот и все. Да и как не одуреть! Он такой умный, красивый, такой большой и добрый! Как посмотрит своими синими глазами – сердце так и обрывается и начинает плясать по всему ее круглому телу: то в горле комком застрянет, то в животе защекочет мягкой кисточкой, то куда-то в ноги ухнет так, что колени сами собой подгибаются. Вот она и ходит уже несколько дней с глупой счастливой улыбкой, которую и спрятать-то ну никак не возможно! Даже прохожие на улице удивленно оборачиваются: катится себе по тротуару белая круглая бусина, улыбается во весь рот...
А какая красивая все-таки Софья Михайловна, Мишкина мать, Игорева жена... Лицо такое тонкое, почти прозрачное, равнодушно-приветливое, и глаза странные: красивые, неземные какие-то, то ли печальные, то ли счастливые, не поймешь! Как будто сквозь тебя смотрит, как будто видит то, чего другим и видеть-то не дано...
Задумавшись, она чуть не проворонила подбирающуюся к самому краю белую молочную пену, испуганно подхватив кастрюльку в самый последний момент. Слила молоко в большую цветастую чашку, насыпала немного соды. Подумав, добавила ложку сахара, немного сливочного масла, помешивая, понесла в комнату.
– А папа когда приедет? Я еще спать не буду? Ты меня не заставляй спать, ладно?
– Хорошо, не буду заставлять. Пей молоко, Машенька. Выпьешь – и вместе будем ждать папу...
– Ага... А ты хорошая, как Мишка. А ты меня будешь любить? Миша меня любит... А сказку мне будешь читать? Всегда-всегда? А можно, я с тобой останусь? С тобой и с папой?
– Машенька, а как же мама? Тебе ее не жалко? Она же скучать будет, плакать...
– Нет, не будет. Она же красивая... А красивые мамы своих дочек не любят, только некрасивые любят!
Эля оторопела. Ничего себе, детская логика! Даже не знаешь, что и сказать...
Поделиться14Вторник, 5 февраля 00:21
– Машенька, а почему красивые мамы дочек не любят? Разве так бывает?
– А вот бывает! Бывает! Вот у Лизки мама – тетя Надя – совсем некрасивая, толстая, а знаешь, как Лизку любит! Все разрешает и ругается совсем не страшно, и баловаться можно, и кричать громко, и рисовать! А мою маму Лизка боится, а я тетю Надю ну вот нисколечки не боюсь! А вот в садике у нас девочка есть, Ленка Петрова, так у нее мама, знаешь, какая красивая! А забирает ее из садика позже всех, а иногда и вообще не забирает... Воспитательница ругается, сама ее домой отводит, а Ленка так плачет, так плачет...
– Нет, Машенька. Бывает, и красивые мамы дочек тоже любят. У меня была красивая мама и, знаешь, как меня любила!
– А где теперь твоя мама?
– Умерла... Давно уже. Я еще маленькая была.
– А ты тогда с кем живешь, если у тебя мамы нет?
– С тетей. У нее большой дом на берегу реки, и лес рядом.
– А у нас в деревне тоже есть лес и речка. Мы с папой и Мишей туда купаться ходим. А мама с нами не ходит. Она всегда одна гуляет, чтоб мы не мешали. А ты возьмешь меня с собой? Я хочу с тобой и с папой...
– Машенька, ты пей, пей молоко, оно уже не горячее.
– А ты полежи рядом со мной! Как будто ты Миша! Мы с Мишей всегда вместе спать ложимся, она мне спинку чешет.
Она легла с Машенькой, начала гладить ласково по спинке, приговаривая:
– Все будет хорошо, котенок... Спи. Скоро приедет папа, мы что-нибудь придумаем. Спи...
– Не так, надо ноготками, как Миша. Чтоб щекотно было...
Эля лежала, скребла тихонько ноготками по спинке чужого ей, в сущности, ребенка. Почему чужого? Она же дочка Игоря, значит, уже не чужая ей. От Машенькиных волос сладко пахло молоком, свежестью, еще чем-то неуловимым, детским, нежным... Хотелось зарыться в эти рыжие кудри носом, и уснуть беззаботно, и ждать, ждать Игоря хоть сто лет!
А может, и правда ему отдадут Машеньку? Странно все-таки, как это она говорит? Некрасивые мамы дочек любят, а красивые – не любят... А что? Поедут домой, к тетке, она обрадуется! Места всем хватит. Она научится всему, и спинку чесать ноготками, и сказки рассказывать, и простуду лечить...
Машенька заснула, задышала ровно, с трудом втягивая воздух простуженным носиком. Эля приподнялась на подушке, осторожно потрогала лоб, убрала со щеки прилипшую рыжую прядку. Не очень горячий вроде бы. Потом долго смотрела на спящую девочку, по-бабьи подперев голову рукой. Какая она худенькая, бледненькая, личико маленькое... Ее бы козьим молоком попоить. Интересно, соседка, баба Нюра, держит еще козу или нет? Летом вроде держала, когда она приезжала к тетке на каникулы... И ботинки бы новые Машеньке справить, а то у нее неказистые какие-то, со шнурками. И не ботинки надо, а сапожки высокенькие, пусть по лужам бегает, ножки не промокнут...
Она и сама не заметила, как уснула. Ей снился дом, крутой спуск к реке, по которому можно разбежаться сильно и бежать до самого берега, как по мягкому ковру, по зарослям незабудок. На берегу перевернутые днищем вверх лодки, белый песок, следы от рыбацких костров, красная дорожка на воде – отблеск заходящего солнца... Сейчас она войдет в воду и поплывет по этой дорожке...
– Эля! Эля, проснись! – сквозь сон услышала она негромкий голос Игоря, подняла испуганно голову. Он стоял над ней, тряс за плечо. Наклонился, присев на корточки, спросил встревоженным шепотом: – Что случилось? Почему Маша здесь? Как она здесь оказалась?
Эля протерла глаза, потрясла головой. Села на кровати, свесив ноги.
– Понимаешь, я хотела у Мишки забрать твои вещи, ну хоть какие-нибудь. Она же обещала, помнишь? Я позвонила, а Машенька взяла трубку... И сказала, что она одна и что ей страшно... И попросила ее забрать... Ты не думай, она там записку написала, что она у тебя...
– Записку? Какую записку? Она писать еще не умеет, Эля... И давно она у тебя?
– Со вчерашнего дня...
– Ничего себе! Ее ж потеряли, наверное... Соня там с ума сходит!
– Я хотела сходить, позвонить из автомата, Машенька меня не отпустила. Она болеет, Игорь, у нее температура!
Игорь озабоченно потрогал лоб девочки, поднялся во весь рост.
– Так... Я сейчас отвезу ее домой, ты заверни ее получше в одеяло. И вещи в пакет собери. Шапку только на головку надень...
– Игорь! Ну подожди! – отчаянно то ли запищала, то ли зашептала Эля. – Она же болеет! Ты съезди один или позвони, скажи, что она у тебя! Ну не увози, пожалуйста! Пусть она у нас побудет!
– Нет.
Игорь поднял ее за локти с кровати, отодвинул в сторону. Потом тихо и бережно, стараясь не разбудить, закутал Машеньку в одеяло, осторожно поднял на руки. Девочка чуть приоткрыла глазки, увидела спросонья отца, обвила ручками за шею. Положила кудрявую головку ему на плечо, уткнувшись сопящим носиком в шею.
Эля дрожащими руками сложила в большой пакет комбинезон, неказистые ботинки со шнурками, натянула на головку розовую шапку, поплотнее закутала в одеяло босые ножки.
– Я поеду с тобой, в машине ее подержу!
– Нет. Я поеду один. Жди меня здесь.
Эля смотрела, как осторожно он спускается вниз по ступенькам, напрягая спину.
Закрыла дверь, щелкнула замком. Тихо вернулась в комнату. Легла на кровать лицом вниз, на то место, где только что лежала девочка, вдохнула запах теплого молока, рыжих кудрявых волос, вспомнила ее бледное личико с яркими звездочками весенних веснушек. «Некрасивые мамы дочек любят, а красивые не любят...» «Машенька, Машенька! А я б тебя, знаешь, как любила!» Плечи ее затряслись. Она заплакала горько, безысходно, как плачут о тяжелой потере, о несостоявшейся любви, о несбывшихся надеждах, от всего сердца, большого и горячего...
СОНЯ
За окном пошел дождь. Первый за эту весну, едва слышный, медленный и спокойный, словно кто-то невидимой рукой старался тихо и незаметно смыть пыль с оттаявших от зимы деревьев, подготовить их к новому празднику жизни – появлению первых нежных листочков. «Завтра уже появится едва заметная зеленая дымка на деревьях, – отрешенно думала Соня, глядя на пунктиры редких капель на оконном стекле. – Я раньше так радовалась этому дню... Уходила гулять на целый день. Это был и мой собственный праздник, как будто я вместе с деревьями рождалась заново. А теперь ничего не чувствую...» Вся кухня пропиталась запахом валерьянки и сигаретного дыма. Запахом тревоги. Запахом ожидания. Запахом отчаяния, когда хочется действовать, куда-то бежать, срочно и немедленно предпринимать что-то, а ты вынуждена сидеть и ждать, ждать...
Она так и не смогла уговорить ни Мишку, ни Сашку пойти прилечь, так и сидели они втроем на насквозь прокуренной кухне, смотрели в темное окно, за которым деликатно шуршал чистый аккуратный дождик, занося к ним в кухню через открытую форточку спасительный влажный свежий воздух. «Еще одну ночь я уже не выдержу», – думала Соня, с отвращением глядя на переполненную окурками пепельницу. Мишка, проследив за ее взглядом, встала, взяла пепельницу в руки, вытряхнула, начала мыть под краном.
– Мам, давай окно откроем, а то мы задохнемся тут...
Сашка, не дожидаясь ответа, вскочила с ногами на диванчик, потянулась к верхнему шпингалету, намертво задвинутому на зиму. Долго дергала его рукой, пытаясь открыть, стучала кулаком по раме, снова пыталась расшевелить неподдающееся допотопное устройство, никак не желающее отступать под напором ее молодой силы. И вдруг замерла, внимательно глядя вниз, на улицу, пытаясь что-то разглядеть в жалком свете маленькой лапочки под козырьком подъезда.
– Кажется, отец приехал... Это его машина... – неуверенно и испуганно произнесла Сашка, оборачиваясь от окна. Потом снова повернулась, вгляделась, напрягшись, как натянутая струна, и снова обернулась, глядя на Соню широко открытыми испуганными глазами. – Мама, он Машку привез, кажется... На руках несет...
Через секунду они втроем уже бестолково толпились в маленьком коридорчике, мешая друг другу прорваться в прихожую.
Первой добежала до двери Соня, распахнула настежь, выбежала босая на лестничную площадку, дробно застучала голыми пятками по грязным ступенькам. Игорь уже поднимался ей навстречу, глядя под ноги, осторожно прижимая к себе спящую Машку. Увидев Соню, остановился, заговорил торопливо:
– Все в порядке, ничего не случилось... Она спит, не волнуйся... Сейчас я все объясню... Все хорошо с ней, Соня, ничего не случилось... Не волнуйся...
Соня молча протянула руки, потом закрыла ими трясущееся лицо. Потом снова тянула руки, кивая, словно пытаясь что-то сказать. Вместо слов получалось только какое-то странное всхлипывание и поскуливание, как будто она была немой от рождения и никаких слов никогда в жизни не произносила. Мишка с Сашкой стояли за спиной у матери, смотрели на отца укоризненно, молчали.
– Пойдемте, холодно здесь. Ее поскорее уложить надо, – наконец твердо произнес Игорь.
Они поднялись в квартиру. Игорь пронес Машку в комнату, уложил на Сонин диван. Она крепко спала, завернутая в чужое красное стеганое одеяло. Соня опустилась на колени, тихонько стянула с головы девочки шапку. Яркие рыжие волосы рассыпались по подушке. Машка сердито перевернулась на бок, устраиваясь поудобнее, подсунув под щеку ладошку. «Господи, вот оно – счастье...» – скорее даже не подумала, а нутром ощутила Соня, глядя на своего живого и невредимого ребенка. И тут же почувствовала, как тихо зашевелился в сердце прежний гвоздь, потихоньку раскаляясь. Она уже совсем не боялась этой горячей боли, потому что понимала – не боль это вовсе, а что-то другое, ранее ей неведомое, свалившееся на нее так неожиданно, и в то же время намного более необходимое ей, чем все ее прежние привычки и удовольствия, вместе взятые...
– Соня... Раз уж так получилось, давай поговорим... – услышала она откуда-то сверху тихий голос Игоря. Подняла голову, посмотрела внимательно. Конечно, они сейчас поговорят. А как же? Конечно, поговорят... Только совсем не хотелось вставать с колен, отрывать взгляд от спящей дочери, не хотелось ни о чем разговаривать... Хотелось лечь рядом с Машкой, обнять ее худенькое тельце, зарыться носом в рыжие волосы и лежать так долго-долго...
– ...Ты не обижайся на нее, она еще девчонка совсем... Машка ее обманула, сказала, что записку оставила. Она и подумала, что ее искать никто не будет... А меня вчера весь день в городе не было, вот сейчас только приехал. Ты не бойся, она ее и кормила, и спать укладывала, все как полагается! Она очень добрая девочка...
Соня смотрела на него и не узнавала. Это был другой Игорь. Ничего в этом человеке не напоминало ее мужа, тяжелого увальня, медлительного, молчаливого, с всегда одинаковым выражением тупой покорности на лице. Не было прежнего усталого тоскливого взгляда, глаза смотрели живо, ярко блестели, руки выдавали несвойственные им ранее жесты. Молчун Игорь говорил и говорил без умолку, словно прорвало некую эмоциональную плотину. Надо же... Она и представить себе не могла, что он может так разговаривать!
– ...Я когда ее увидел, меня будто ударило что-то. Она, наверное, совсем некрасивая по вашим, женским, меркам. Но от нее такое тепло идет, что оторваться невозможно! Любовь и тепло... Мне теперь кажется, что я раньше и не жил вовсе, а просто шел длинной зимней дорогой, искал свой теплый дом. С тобой так холодно, Соня! Еще немного, и я бы упал, замерз в сугробе... А Эля умеет любить. Не в сексуальном смысле... Хотя что я говорю, и в нем, конечно, тоже! Ты прости, что я тебе это вот так говорю, грубо, наверное. Прости... И не думай, я зла не держу, сам во всем виноват! Вырастил сам в себе огромное чувство долга, как опухоль, и чуть не умер... Мне пожить надо, Соня! Я так чувствую, я просто обязан пожить, побыть самим собой, побыть счастливым, наконец!
– А я, по-твоему, не умею любить? – с трудом прорвавшись через бурный поток слов и эмоций, спросила Соня.
– Ты? Нет...
Это, наверное, не всем дано. Я так думаю, это особый талант. А у тебя его нет, у тебя, наверное, другие таланты... Ты же сама рассказывала, что видишь мир по-своему, не так, как все. Летишь между небом и землей, а смотришь только в небо, и тебе, по сути, все равно, как там внизу, на земле, живут твой муж, твои дети...
Соня молчала. Она во все глаза смотрела на Игоря, испытывая странное чувство то ли досады, то ли недоумения. Как это она его раньше не разглядела? Был всего лишь раздражающим фактором, бытовой необходимостью, добытчиком хоть и очень скромного, но достатка, был личным водителем, кем угодно был, только не тем интересным, умным мужиком, которого она видит сейчас! «Я, как чеховская стрекоза Оленька, от досады начну локти кусать. Проморгала! Проморгала! Так тебе и надо!»
– Ну что ж, Антон Павлович, и на том спасибо...
– Что?
– Прости, это я так, сама с собой разговариваю. Вернее, с Чеховым...
– Ну вот видишь, тебе всегда есть с кем поговорить! Зачем тебе муж?
– Чтобы защищать... Помогать... Я же всего лишь слабая женщина! Сам же сказал, что я в облаках витаю, от земных проблем далеко...
– Ничего. Значит, время тебе настало – спуститься на землю. Здесь тоже неплохо, между прочим. Учись, приспосабливайся, меняйся. Классики помогут...
Вот это да! Если б еще месяц назад кто-нибудь воспроизвел ей этот ночной разговор с мужем, она бы долго смеялась. Не умеет он так говорить! Не может быть у него таких сияющих, насмешливых, уверенных глаз! Не может человек измениться за считанные дни! Хотя как сказать... Она ведь изменилась! Что-то перевернулось в ней, и начался отсчет в другую сторону. Наверное, от неба к земле... Только слишком быстро, как будто у этого что-то не раскрылся парашют. Не разбиться бы вдребезги о приближающуюся землю...
Распрямив спину, Соня внимательно посмотрела в новые, незнакомые глаза мужа и, актерски искусно придав взгляду и голосу как можно больше твердости и уверенности, чтобы замаскировать паническую внутреннюю трусливую дрожь, произнесла:
– Ну что ж, иди, раз так счастья захотелось... Так захотелось, что про детей ничего не спрашиваешь...
– Да при чем здесь дети, Соня! Дай мне в себя прийти, я и сам пока себя не узнаю! А дети как были моими, так моими и останутся... Отцовства моего никто не отменял. И помогать буду, как смогу, и они мне помогут, как смогут.
– Прости. Ты прав, наверное. Даже определенно прав... Я действительно держала тебя на чувстве долга перед своей слабостью, перед детьми. Мне так удобно было. А что с тобой происходит – не замечала... Мне даже казалось, что я создала идеальную модель семьи: спокойную, без ссор, без скандалов, с послушными детьми, с мужем-добытчиком. Мне все знакомые завидовали. Ты прости меня, Игорь!
– А ты другая стала... Я, если честно, боялся сюда идти, слез твоих боялся, истерик. Если б не Машенька, долго не пришел бы. Думал, ты в меня вцепишься, пугать начнешь, к совести, к долгу взывать! А ты другая... Соня, а Мишку ты замуж отпусти, ладно? И не заводи с ней разговоров про ее красный диплом, ради Бога! Ее еще со второго курса чуть не отчислили. Я ходил, договаривался, взятки давал... Ты ж ей установку дала на красный диплом, вот она и врала тебе все пять лет! Боялась, переживала, извелась вся. И я, идиот, молчал. Тоже боялся. Как лихо ты нам всем гайки-то закрутила!
Помолчали. Стало вдруг слышно, как часто капает вода в кухонную раковину, словно невидимый глазу секундомер отсчитывает уходящее время: тук-тук, тук-тук...
– Вот, кран сломался... – безысходным каким-то голосом произнесла Соня, будто собираясь заплакать.
– Я пойду...
Игорь быстро поднялся из-за стола, пошел в прихожую, на ходу произнося буднично, как будто уходил не навсегда из своего дома, а в булочную напротив:
– Я из квартиры на днях выпишусь, за вещами завтра заеду. Ты собери там что-нибудь, что считаешь нужным... Или, наоборот, ненужным... Дачу можешь продать, если хочешь, я доверенность дам. А машину я себе оставлю, от нее все равно уже толку нет, дорого не продать, на металлолом разве... Ну все, пока...
Соня закрыла за ним дверь, медленно прошла на кухню. Тихонько вошли следом за ней Мишка с Машкой, в пижамах, с растрепанными волосами, щурясь от яркого света.
– Ну что, мам, поговорили? – первой спросила Сашка, садясь напротив матери.
– Поговорили... Впервые в жизни, наверное, поговорили. Надо же, двадцать пять лет с человеком прожила, бок о бок, можно сказать, и ни разу с ним не поговорила по-человечески... Он всегда был благодарным моим слушателем, а собеседником – никогда. Девочки, а с вами я так же себя веду? Я как начинаю об этом думать, у меня сразу на сердце так горячо становится, так стыдно...
– Да ладно, мам, не парься! Давай лучше Мишкину свадьбу обсудим! Знаешь, ты когда спала, ее жених приходил, хотел официальное предложение сделать. Он же не знал, что у нас Машка пропала... Так что у нас теперь Мишка – невеста! – на одном дыхании протараторила Сашка. Потом повернулась всем корпусом к Мишке, лихо подперев красивое бедро кулаком: – А мы тебя так просто не отдадим! И не надейся! Ты у нас не абы как, а с высшим образованием невеста, умница-разумница, еще поискать таких! А на свадьбе я на столе стриптиз станцую, вот веселуха будет! Как приложение к твоему диплому!
Соня весело рассмеялась, легко, по-девичьи, словно что-то отпустило внутри, как будто ушла противная внутренняя тревога, паутиной затянувшая душу.
– Сашк, достала уже своим стриптизом... Хватит уже! Оно тебе надо? – заворчала смутившаяся было Мишка.
– Да, Саш... Может, ты подумаешь? Может, и правда тебе это не надо? – отсмеявшись, тихо спросила Соня.
– Не знаю, девочки. Надо, наверное. Я так чувствую... Все равно буду делать то, что задумала.
– Ну тогда покажи хоть, как это выглядит. Можно нам с Майей на репетицию прийти?
– Ой, она ж просила позвонить! А который час? – спохватилась Сашка.
– Поздно уже. Она спит, наверное. Удивительный человек твоя Майя, Сашка. Я ж всегда себя за умную почитала, а поговорила с ней и поняла, что я абсолютная дура! Сердце обожгло, пробило, торкнуло, как хотите... Вы простите свою глупую мать...
– Ой, да ладно, мам, опять начинаешь! Мы тебя любую любим и принимаем, и с обожженным сердцем, и пробитую, и даже слегка торкнутую...
Соня опять засмеялась, легко и благодарно. Потом прислушалась, подняв кверху палец. Из ее комнаты доносилось негромкое Машкино кряхтение, похожее на частый сухой кашель.
– Пойду температуру померяю... А вы спать идите, скоро уже светать начнет! Завтра вам рано вставать.
Девочки как по команде послушно встали из-за стола, ушли в свою комнату. Соня подошла к лежащей на диване Машке. Та спала, выпростав из-под одеяла худые ножки, тяжело дышала носиком. От прикосновения ко лбу Сониной ладони вздрогнула, проснулась, удивленно уставилась на мать.
– Спи, Машенька... Все хорошо, ты дома, со мной.
– А папа где?
– Я его попросила, чтоб он тебя ко мне привез. Папа тебя любит, и я тебя люблю, я, знаешь, как соскучилась!
– И ты на меня сердиться не будешь, что я без спросу ушла?
– Нет, что ты, не буду.
– А где Миша с Сашей?
– Дома, Машенька, дома. А ты поспи со мной рядом, ладно? А утром мы проснемся и позовем в гости тетю Надю с Лизкой. И вместе с тобой пирог испечем. Такой же вкусный, как у тети Нади... У нас ведь тоже получится, правда?
Соня что-то еще ласково приговаривала Машке на ухо, гладила по спинке, по рыжим волосам, прятала холодные ножки под одеяло, пока не почувствовала, как под ее рукой уходит из Машки напряжение и страх, как она беззаботно проваливается в свой детский сон.
Потом прилегла тихонько рядом, боясь потревожить то ли спящую дочь, то ли свое новое хрупкое состояние, которое еще до конца не поняла, не осознала, но которое теплым покоем переполняло ее душу.
Странный ей снился сон. Она видела себя в освещенной ярким и в то же время каким-то мертвенным светом галерее, похожей на длинный узкий коридор. В коридоре нет ни одной двери, только в конце его светится что-то похожее на проем. Соня движется к этому проему, ей надо быстрее дойти до него, выйти из этого страшного коридора. Но чем быстрее она идет, тем дальше и дальше отодвигается видимый вдали выход. Свет становится таким ярким, что режет глаза. Вдруг она замечает, что стены коридора совсем не пустые и голые, как ей показалось вначале. На них висят портреты ее любимых классиков, все как полагается, в красивых золоченых рамах, только что-то странное, жутковатое бросается в глаза, отчего она пугается, становится страшно идти совсем одной по этому светящемуся мертвому коридору. Вот Александр Сергеевич чуть развернул в ее сторону свой необычный профиль, обдав холодной высокомерной улыбкой. А вот, глядя на нее, сердито свел широкие седые брови Лев Николаевич. Во взгляде Федора Михайловича Соня увидела больное какое-то равнодушие, даже, как ей показалось, скрытую неприязнь... Даже любимый Антон Павлович неодобрительно блеснул на нее своим пенсне, внимательно проводив грустными глазами. Соню охватила паника, она уже бежала по длинному коридору, стараясь изо всех сил не вглядываться в эти живые портретные лица. Они сердито изгоняли ее из своего мира, недовольно смотрели вслед, но до выхода еще так далеко, и сколько ни беги, а он не приближается...
Проснулась она от звонка, испуганно соскочила с дивана. Принялась нажимать на кнопку будильника, стрелки которого указывали на шесть утра. Потом сообразила, что звонит телефон. В комнате было совсем светло, за окном весело щебетали птицы, радуясь наступлению нового дня. «Вот приснится же бред какой, хуже самого страшного кошмара, – подумала Соня, встряхивая головой и беря телефонную трубку. – То романы во сне пишу, то классики меня изгоняют... Так и с ума сойти можно от собственной впечатлительности».
Звонила Майя. Услышав ее голос, Соня облегченно еще раз встряхнула головой, прогоняя остатки кошмара.
– Нашлась, нашлась Машенька... Игорь ее привез ночью. Все в порядке. Я что хотела сказать, Майя... Спасибо тебе.
– Да за что?
– Даже не знаю, за что. Не знаю, как это назвать. Во мне все перевернулось в одночасье... В общем, мне стыдно за себя, я действительно не умела любить своих детей, ты права... Теперь все будет по-другому!
– Не впадай в эйфорию, Соня. Так не бывает: вчера не умела любить, а сегодня научилась. Это очень длинный путь. Надо себя ой как переделать, все в себе перелопатить... Может всей оставшейся жизни не хватить, а ты еще и полшага не сделала!
– Да я понимаю. Вот с сегодняшнего дня и начну, сделаю эти полшага. Я способная, я сумею! Ты мне только помоги.
– Соня, никого нельзя научить любви. Можно чему угодно научить, только не любви. Ты сама должна. Как сумеешь, как почувствуешь. Просто заглядывай в глаза своим детям, и ничему больше и учиться не надо. Там все написано. Ты знаешь, любимого ребенка сразу видно. Не залюбленного-задаренного, воспитанием-образованием замученного, а просто любимого. У него глаза особенные. В них страха нет. Страха не выслужить материнскую любовь. Не ставь им никаких условий. Разреши им быть всякими. Прими их и плохими тоже. Я думаю, тебе это будет трудно поначалу, но попробуй! Это действительно трудно. И я думаю, тебя множество неприятных сюрпризов ждет. Если они тебе поверят, конечно...
Соня слушала Майю молча, тихо вытирая бегущие по щекам слезы.
Она столько всего на свете прочитала, столько всего знает, а сейчас вдруг почувствовала полную свою беспомощность, словно пропустила в жизни что-то главное, что-то неуловимо прошло мимо, а она и не поняла ничего... Неужели для того, чтобы научиться мудрости, надо пройти через потери, лишиться чего-то важного, испытать сильное потрясение? А хватит ли у нее сил? Сможет ли она теперь, когда потеряно столько драгоценного времени, дать своим девочкам хоть немного той безусловной любви, о которой говорит Майя? А вдруг у нее не получится? Откуда ей силы-то брать? Она ж совсем одна. Нет у нее друзей, есть только собственная самодостаточность, которой она так гордилась и которая, наверное, и называется-то у нормальных людей по-другому. Эгоизмом, например, или еще как похлеще...
– Эй, ты что там, плачешь, что ли? – В голосе Майи слышалось недоумение. – А сейчас-то почему? Машенька нашлась, слава Богу...
– Девочек жалко... Представляешь, мне Игорь сказал, что Мишка все время врала про свою учебу. Никакая она не отличница и госэкзамены кое-как сдала. Ей казалось, что я ее за это презирать буду... Что же она в душе-то выстрадала, бедный мой ребенок!
– А-а-а... Вон в чем дело. Тогда плачь.
– Я уж про Сашку у тебя и не спрашиваю. Там, наверное, вообще темный лес, мне сейчас правды просто и не осилить.
Горячие слезы все текли и текли по Сониным щекам. Уже в который раз за эти десять окаянных и бесценных дней... Она и не пыталась их остановить, ей очень нужны были эти слезы, просто необходимы, чтобы промыть душу, очистить ее от слепого испуганного равнодушия, как промыл готовые к возрождению новой жизни деревья тихий ночной дождик этой ночью.
– А вообще-то, знаешь, кончай плакать! – снова услышала Соня издалека Майин голос. – Силы береги. Тебе ж надо, как я понимаю, старшую дочь замуж отдавать. Мальчик у нее хороший, умненький такой, мы вчера с ним побеседовали... А чтоб свадьбу нынче провести, это ой как покрутиться надо! Это тебе не Наташу Ростову на бал спровадить, при нынешних-то ценах... А еще нам с тобой предстоит жить вместе с Сашкиным стриптизом и его последствиями, а это испытание не для слабонервных, уж поверь мне! Так что кончай киселиться, у тебя на это просто времени нет! Вытирай свои слезы и приступай к новой жизни. Только помни, что все и сразу никому никогда не дается. Жизнь штука сложная, но ее жить надо, а не наблюдать и не придумывать из стеклянного домика, если выражаться твоими образами, дорогая моя Соня...
– Домик вдребезги разбит, и осколки режут душу. Машка на диване спит. Ты не бойся, я не струшу... – уже смеясь, продекламировала в трубку Соня.
– Нет, ты точно ненормальная... Тебе романы писать надо. Пропал талант, зарыли в землю...
– Я прежней жизни не приемлю! Пойду будить своих детей. В глаза им загляну скорее.
Отсмеявшись, они одновременно положили трубки. Соня прошла на кухню, закурила первую в это утро сигарету. Посмотрела в окно.
Сколько всего произошло с ней за этот короткий период... Сколько важного и нужного! Она будет учиться любить. Нет, не так. Она начинает учиться любить. Она справится, она будет самой старательной ученицей! Сейчас пойдет и приготовит завтрак, вместе с девочками сядет за стол, и скажет Мишке, старшей своей дочери, что не нужен ей никакой красный диплом, что она очень любит ее, милую свою добрую тихушницу, и скажет Сашке, средней своей дочери, как гордится ее красотой и талантом, и верит ей, и всегда будет рядом, что бы ни случилось на выбранной ею дороге...
А для Машеньки она приготовит горячее молоко с медом и маслом, и та будет сидеть у нее на коленях, и пыхтеть, и все они дружно будут уговаривать ее выпить это молоко, одновременно обещая и почитать книжку про Робинзона Крузо, и не водить в садик, и купить новую куклу и новые красивые ботинки, в которых можно будет бегать по лужам... Все у нее получится! Непременно получится! Потому что она не отдаст больше в нелюбовь своих дочерей – Мишку, Сашку и Машку, свою веру, надежду и любовь, ведь она мать их – Софья!
Поделиться15Суббота, 8 июля 13:11
На прошлой неделе , нужно было создать Штампы . По совету знакомых бизнеспартнеров которые уже пользовались услугами фирмы
poligrafia-luxe.ru решил и я послушать совета.
Сразу скажу фирма лучше на фоне остальных конкурентов.
Стоимость вышла та, что и обговаривали с менеджером, я остался очень доволен и оставил положительный отзыв, да и в целом, цены в печатнике приятные. Вообщем, рекомендую!
Поделиться16Понедельник, 31 июля 12:51
Beautiful men who are fighting be found on football-vrn.ru
go over and you will be very satisfied.
Поделиться17Четверг, 29 февраля 13:55
Вся правда об Астарт Вард
_________________________________________________
Астарт Вард отзывы magastartvard . ru отзывы о маге Астарт Вард
______________________________________________________
Не так давно обращалась к magastartvard . ru - отзывы только хорошие
Обратилась к магу Астарту Варду с просьбой о защите от негативных воздействий. Его защитный ритуал оказался эффективным - я чувствую себя более спокойной и уверенной в себе. Благодарю за вашу помощь!
______________________________________________________________
отзывы о маге Астарт Вард




